
facta probantur, jura deducuntur
(деяния доказываются, право выводится)
Обратная посылка
Напомню, что из предыдущего рассмотрения концепций правопонимания мы вывели, что имеется нечто общее – это:
— право есть регулирование общества;
— имеется цель такого регулирования;
— это регулирование приобретает внутреннюю упорядоченность, системность, даже некоторую автономность;
— данное регулирование вызвано самим человеческим обществом.
Другим выводом из предыдущего является то, что право обслуживает социальную систему общества и не может пониматься вне социальной системы.
Таким образом, объективную сущность права следует наблюдать во взаимосвязи с тем, что делает социальную систему единой. Очевидно, что существа, обладающие свободой воли должны как-то прийти к единству, чтобы социальная система, образованная этими существами, была устойчивой. Однако, два или три человека могут договориться о единстве, но когда людей сотни тысяч, миллионы – договорённости будет недостаточно, просто потому, что невозможно сформулировать единую договорённость для такой массы свободных воль с разным пониманием и разными жизненными ситуациями.
И тут правовые теории делятся на две части:
— одни говорят, что единство обеспечивается насилием;
— другие утверждают, что единство определяется поощрением и иными благами, которые даёт правомерное поведение.
Следует сказать, что это деление не совсем точное, поскольку очевидно, что право есть порождение социальной системы разные теории права определяют связь права с социальной системой. Указывается, что право развивается исторически вместе с развитием общества, либо указывается, что право обеспечивается аппаратом принуждения государства, либо делается акцент на общественном понимании добра, справедливости, высокого предназначения, божественного закона, либо делается акцент на том, что правовой информацией обмениваются субъекты и т.п. В результате говорят о взаимодействии способа насилия и способа поощрения с конкретными характеристиками этого взаимодействия.
Однако, без разницы, если задуматься, как мы вызываем нужное поведение субъекта, рассыпаем ли крупицы золота, чтоб он пошёл за ними в нужную нам сторону, либо гоним его в эту сторону кнутом. Так или иначе право рассматривается как способ воздействия. Получается, что право призвано ограничить, нивелировать свободу воли человека тем или иным способом, подчинить его чему-то или кому-то. Это что-то или кто-то словно остаётся за пределами рассмотрения, хотя порой обозначается как «суверен», либо как «идея», как «цель», «традиция», «порядок» и т.п.
Собственно системный подход тут уступает догматическому, не рассматривается функционирование социальной системы и роль права в ней.
На современном этапе развития знаний очевидно, что любая система будет, с одной стороны, удалять те части, которые мешают системной целостности, с другой стороны, будет воспроизводить и даже развивать те части, которые способствуют устойчивости системы и её развитию.
Более того, известно, что существуют надсистемные связи высшего уровня, которые приводят к уничтожению целых систем в угоду системе высшего уровня. Так, смерть живых существ необходима в целях рекомбинации генов и появления особей с новыми качествами. Если бы этого не было, то неразвивающиеся особи просто израсходовали бы тот естественный ресурс, которым они питаются, и все поголовно погибли бы. Но смерть освобождает место для новых порождений, имеющих новые вариации генов, среди которых неминуемо находятся те, которые способны потреблять новые ресурсы, ранее не являвшиеся объектами потребления. Так гибнут динозавры, но их места занимают млекопитающие, по началу не обладающие особым разнообразием видов, но постепенно это разнообразие нарастает, и система всего живого на земле восстанавливает себя одновременно развиваясь.
Подобное «уничтожение» в угоду высшей системности происходит и в человеческих сообществах, например, стал распространён европейский тип костюма, при этом традиционные национальные костюмы во многих случаях «вымерли». Отжили и отпали формы обществ с военной демократией. Или практически перестали существовать самоизолирующеся человеческие сообщества. Нет государственных образований, живущих исключительно грабежом и войной, нет кочевых государств (можно найти много примеров ушедших в небытие социальных систем и явлений: пиратские города, круговая порука, рабовладельческие государства…).
Живое вообще является системой особого рода. Оно активно и в этой активности просто и естественно возникает масса взаимодействий с внешней средой, которая во многом состоит из такого же живого. В силу этого живое изменчиво, и то живое, которое мы видим сегодня, хотя и имеет предков в прошлом живом, тем не менее не является этим прошлым (например, предками китов и дельфинов были существа похожие на кабана, родственное современным бегемотам и занимавшие экологическую нишу, которую в настоящее время занимают медведи).
Высшая форма активности живого – это сознание, которое и есть своеволие, и у двух своевольных существ есть несколько выборов:
— либо воевать друг с другом;
— либо игнорировать друг друга;
— либо помогать друг другу.
На самом деле спектр вариантов шире, так как есть разные характерные сочетания этих возможностей. Известен закон: там, где есть три варианта выбора, там выбор фактически бесконечно разнообразен.
Но если двое могут договориться о взаимодействии, то массе договориться сложно. Однако выработать некие общие правила как основу взаимодействия – можно. Через конфликты, опытным путём, по мере развития общества и нарастания конфликтов, всё более и более совершенствуя эти общие правила. И эти правила суть свойство такой системы, стоит существу перейти в другую систему, с другими правилами, возникнет непонимание, придётся адаптироваться, как-то эти правила принять, соблюдать их.
Не будет правил – не будет порядка. Не будет порядка – будет беспорядок. Но так ли это на самом деле? Разве порядок возникает в социальной, да и в любой иной системе, только в силу правил? Разве сама система не есть такой порядок? Таким образом, система и правила связаны единством, система сама по себе и есть порядок, а значит, и есть правила.
Конечно, не всякие общие правила являются правом, и это понятно. Непонятно другое: что делает право особым, отличает его от других «общих правил»? Именно выявление этой особенности, по идее, должно раскрыть сущность права. И тут важно понять почему право так «неуловимо», почему возникают разные концепции правопонимания, почему в жизни мы не всегда замечаем право, почему учёные пытаются определить где и как право явно обнаруживается, почему вообще приходится говорить об объективности права, или системы права? Может нет ничего объективного, может всё субъективно?
Выше было сказано, что разные концепции правопонимания отражают разные стороны права, за ними явно скрывается нечто общее. Мы сравнили этот разнобой в правопонимании с притчей о слепых мудрецах, которые ощупывая слона, не увидели зверя в целом, но говорили, что он подобен колоннам, или подобен стене, или подобен змее, шлангу, копью…
Что же должны были сделать мудрецы, чтобы получить представление о самом слоне? Конечно собрать картинку воедино. Но тут проблема: как понять соотношение, что к чему относится? Ведь можно в совершенно разном порядке размещать «стену», «копьё», «змею» и т.п.!? Кажется, что довольно легко «собрать картинку воедино», так как «колонны» явно стоят, а «стена» явно образует основу, которая покоится на этих колоннах и т.д.
Однако, увидеть единство для социальной системы или её элементов таким путём не получится, так как пример с мудрецами и слоном слишком вульгарен. Право явно не является тем, что можно «пощупать», и соотношения в связи с этим определить затруднительно. Но можно поступить иначе: раз мы имеем дело с общими правилами и ищем их сущность, то можно хотя бы в грубом приближении применить разные концепции правопонимания к социальной системе с тем, чтобы выявить роль этих правил. Подобным образом поступает радиотехник, когда ищет неисправность в сложной радиосхеме, он формулирует представление о том, какие функции системы задействованы и проверяет их, увидев нарушения, либо искажения в работе схемы можно понять за что отвечает та или иная часть этой схемы.
Попробуем последовательно проделать этот опыт, представим, что разные теории правопонимания – это сигналы и рассмотрим о чем в социальной система говорят концепции правопонимания:
— Историческая школа права описывает тот факт, что право развивается постепенно, с течением развития всей социальной системы, оно так же естественно, как, например, язык. Когда мы изучаем прошлое права, мы видим и каков был социум, это право породивший. Напротив, наблюдаем усложнение социума и наблюдаем усложнение права, его характера. Право продукт развития народа и выражает волю народа. Такой сложившийся порядок и есть источник права.
Вывод:
Имеется естественная необходимость для существования «общих правил», и эта необходимость связана с системностью социума, его развитием, усложнением.
Отсюда характер права неотделим от социальной системы конкретного народа, страны, области. Известно, что развитие народа связано с материальными особенностями среды обитания, высока вероятность того, что право приобретает определённый характер в силу того, что социальная система восприняла свой характер от взаимодействия человеческого сообщества с окружающей средой.
— Позитивизм (легизм) полагает, что право императивно, это воля суверена, верхов. Юриспруденция изучает строгие законы, или законы в собственном смысле слова (мораль и обычай тут не причём). Суверен не может издать закон для самого себя, потому конституция бессмысленна.
Вывод:
«Общие правила» приобретают самостоятельную роль как регулятор системы, обслуживают функцию контроля над ней.
Отсюда характер права требует, чтобы оно было связано со специальными, отдельными, элементами социальной системы, которые применяют «общие правила» к социальной системе.
— Нормативизм уже допускает, что и мораль, и обычай являются нормами права. Всё право восходит некоей «общей норме», проистекая из неё. Соответственно, нормативизм пытается выйти за рамки собственно правовых норм, видит некий общий принцип, который пока не назван. Право – это уже не только нормы, любой регулятор обнаруживает свойства правовой нормы.
Вывод:
«Общие правила» могут быть разнообразными, но проявляют однотипное регулятивное свойство в виде оценки поведения и вменяемых последствий. Они плотно связаны, но право имеет свою специфику в этой связи.
Характер права связан с необходимостью более точной оценки поведения и более точного вменения последствий, но не выходит за рамки общего принципа, как необходимости регуляции всей социальной системы в целом. Более точная регуляция, очевидно, требует особых элементов в социальной системе, ответственных за такую регуляцию, и такие элементы системы должны быть идеальны, чтобы регуляция была точной, адекватной. В сложной системе идеал недостижим, соответственно, должен быть механизм «стремления к идеалу», что-то, что в разнородных и взаимосвязанных колебаниях задаёт общий тон, общее направление.
— «Материалистическая» теория права говорит о влиянии классов общества на право, право есть воля правящих классов, выраженная в законах. Правящие классы могут дойти до издания таких норм, которые подрывают основу жизни людей, что ведёт к обострению социальных противоречий и революциям. Но возможна и эволюция, когда на основе классовой борьбы правящие классы вынуждены периодически издавать законы в интересах низших классов.
Вывод:
Социальная система неоднородна, в ней есть определённые группы, связанные общими интересами, имеет место конфликтность, напряжённость и «общие правила» используются в этой борьбе как способ подавления одних групп другими, захватившими ведущие позиции в распределении ресурсов и удерживающих эти позиции.
Характер права связан с этими конфликтами групп внутри социальной системы, право обеспечивает подавление одних групп другими, но может служить и для прогрессивных целей.
— Социологическая теория права исходит из жизненных фактов, утверждая, что народ не знает законы и существуют ситуации, когда народ живёт совсем не по тем представлениям и правилам, которые изложены в законах. Рутинная (в виде повседневного поведения людей) структура социальных отношений вовсе не обязательно совпадает с установленными законами. Индивиды, группы, союзы и т.п. создают некие позиции по отношению к друг другу, которые существуют в жизни реально. Законы нужны тогда, когда поведение не существует по привычке, по обычаю. Закон, фактически, должен учитывать социальные факты, законодатель – это социальный инженер. Но по факту на социологическом поле борются различные «акторы» и закон выступает как компромисс в этой борьбе, в чём отражается роль политики. Таким образом, право – это сложное социальное явление, отражающее социальный характер общества и регулирующее поведение в нём на основе «институциональных практик». Большая часть права лежит в области сложившихся, привычных взаимоотношений.
Вывод:
«Общие правила» существуют сами по себе как необходимость коллективного выживания, они имеют характерные черты, соответствующие сложившемуся своеобразию разных народов и групп (разных социальных систем и подсистем).
Характер права связан с компромиссом между социальными группами и индивидами, при этом право может быть, как сложившейся практикой, так и навязанным правилом (законом), последний необходим там, где нет приемлемой необходимой для социальной системы практики. Закон используется как необходимый компромисс в интересах целостности и развития системы, там, где это не может быть обеспечено само по себе.
— Коммуникативная теория права говорит о том, как и почему проявляется значимость правовой информации. Какой-то человек машет руками, он просто машет, он семафорит кораблям приказы адмирала, это жесты регулировщика движения, либо жесты железнодорожника о состоянии путей – вариантов масса. Но для права важны именно коммуникативные значения. Коммуникация не только информация, но и значение, и реализация (единство высказывания, информации, понимания), то что связывает поведение разных субъектов. Таким образом, сама по себе писанная норма закона ничто, только в силу существования её в общественной коммуникации она становится правом. Естественные коммуникации образуют даже право не в юридическом смысле (детское, охотников, картёжное и т.п.).
Вывод:
«Общие правила» есть связь внутри системы, являются её коммуникациями, тем, что связывает элементы системы воедино.
Характер права проявляется в процессе выдачи, передачи и восприятия информации элементами системы. Этот процесс естественный, без него система не существует. Соответственно, любая подобная значимая коммуникация является правом.
— Естественная теория (юснатурализм) исходит из поведения человек как природного существа. Такое «природно-естественное» поведение приводит к появлению права, когда человек формирует то, или иное общество. Человек тут неминуемо рассматривается как независимый, свободный, подверженный в первую очередь законам природы, естества (как вариант – божественным законам). Человек всегда и неминуемо устанавливает правила поведения и право появляется раньше государства, как выражение стремления к справедливости. Потому законы так же должны быть справедливыми.
Вывод:
«Общие правила» являются естественной необходимостью социального существа, они определены изначально природой или творцом, как присущее человеку свойство.
Характер права есть справедливость, которая естественно необходима для выживания человека социального, не существующего без социума. Соответственно, право это должное в интересах естественной социальной жизни поведение, которое в силу естества описывается определёнными правилами и естеству-справедливости противоречить не может.
— Реалистический позитивизм Р.А.Ромашова исходит из того, что существующие разницы правопонимания проистекают от приверженности либо к свободе, либо к стабильности. Разница устранима на основе реалистического (не метафизического) подхода, который отвергает «чистое», «абсолютное» право и рассматривает право, как человеческую деятельность. Как деятельность людей право реально включает целый комплекс (ценности, опыт, традицию, доктрину, догму, эмпирику). Право следует в общем понимать, как регулятивно-охранительную систему общеобязательных норм, принимаемых в целях обеспечения стабильности, безопасности, развития и оказывающих результативное воздействие на общественные отношения. Право бывает публично позитивным (должное поведение), частным (возможное поведение), публично негативным (недопустимое поведение).
Вывод:
Право является особой комплексной деятельностью внутри социальной системы. Эта деятельность фактически стремится к определённым целям-ценностям, накапливает и формулирует опыт взаимодействия, применяет его на практике, приобретая новый опыт, вырабатывая новые цели-ценности и т.д. Весь смысл этой деятельности в регулировании социальной системы, охране её целостности, дальнейшем развитии.
Характер права таким образом проявляется в том, что изнутри социальной системы над этой системой ведётся работа. Данная работа осуществляется в направлениях поощрения необходимого для системы функционирования её элементов, либо в определении допустимых пределов такого функционирования, либо в пресечении недопустимого.
Собственно говоря, с позиции системного подхода какая-то картинка в грубом приближении начинает проявляться. Но заметно, что право понимается то как любые «общие правила», так сказать, в широком смысле, то как исключительно волевое навязывание определённого предписанного поведения. Имеются и промежуточные варианты между этими крайностями.
Так же право рассматривается то как естественная необходимость, то как исключительно искусственное навязанное властной волей поведение. Так же имеются промежуточные варианты между этими крайностями, либо вообще вопрос о том, почему своевольные элементы социальной системы подчиняются общим правилам опускается, не рассматривается в принципе.
Очевидно необходимо:
— найти некий общий способ проверки (общий тест), чтобы как минимум отделить то, что совершенно точно не может являться правом;
— точнее определить, что обеспечивает устойчивость социальной системы и на этой основе ещё раз протестировать где и какой регулятор мы наблюдаем, уточнив результат предыдущего тестирования, уточнив роль права в социальной системе и точнее охарактеризовать право;
— наконец, определить в силу чего право подчиняет себе людей, в чём его роль в социальной системе, что позволит показать те объективные проявления социальной системы, которые суть есть право (тут тоже можно применить своеобразный тест, разобравшись почему есть нормы права, которые «действенны», и на самом деле действуют, а есть – которые «действительны», то есть существуют, но «не действенны»).
Общая проверка
Пожалуй, самое важное для уяснения объективной сущности права – это мысль Ганса Кельзена о том, что принцип причинности, характерный для явлений природы не применим к поведению человека, поскольку он своеволен, более свободен, чем животное. Но свобода человека сама по себе следствие природного принципа причинности. Если же человек не будет свободен, он не будет подлежать юридической ответственности в принципе, так как его поведение будет определено естественными, природными причинами, и потому юридическая ответственность, а, следовательно, и право, к нему будут неприменимы.
Указанный вывод вполне подходит для формулирования общего теста в целях проверки системных выводов из разных концепций правопонимания.
Именно факт свободы воли человека и даже его своеволия позволит отсечь всё лишнее, отделить те «общие правила», которые скорее всего не являются правом, которые будут существовать как чисто природный закон.
Не секрет, что и в животном стаде имеются определённые правила и есть определённые значимые коммуникации, имеется своеобразный язык животных, но это явно не является правом. (Мы не будем спорить по поводу того «есть ли право у животных?», поскольку, если оно есть, то придётся признать, что у животных есть и государство. Хотя подобные точки зрения существуют, и даже бывает высказываются юристами, но это скорее курьёз, чем правда.)
Попробуем провести тест на основе этого принципа, отделим то, что не связано с человеческой свободой, что может существовать и без неё:
— Историческая школа.
Имеется естественная необходимость для существования «общих правил», и эта необходимость связана с системностью социума, его развитием, усложнением.
Отсюда характер права неотделим от социальной системы, от народа.
Общий тест:
Сложные социальные взаимодействия известны у животных, также известно, что они усложняются, например, есть группы шимпанзе, в которые используют орудия и обучают этому сородичей, либо используют особые коммуникационные знаки. То есть, и тут имеется некое историческое развитие.
Право является особым свойством человеческого социума, которое появляется не сразу, а на определённом этапе развития социальной системы. Очевидно, простые, биологически заданные способности к социальной регуляции уже не справляются с той социальной-системной сложностью, которая возникает в процессе развития.
— Позитивизм (легизм).
«Общие правила» приобретают самостоятельную роль как регулятор системы, обслуживают функцию контроля над ней.
Отсюда характер права требует, чтобы оно было связано со специальными, отдельными, элементами социальной системы, которые применяют «общие правила» к социальной системе.
Общий тест:
Необходимо объяснение факта вычленения особого контрольного элемента (суверена). А так же необходимо объяснение как удаётся привести к единому огромное количество своевольных существ. Очевидно, что простого насилия тут недостаточно. Биологически известно, что вожак может контролировать только определённое количество особей в стаде, стада, превышающие это количество, естественным образом делятся на более мелкие. Невозможно применить насилие ко всем, и тем более невозможно с помощью насилия побудить к творчеству и развитию.
Право не может быть связано исключительно с насилием, скорее всего, насилие играет дополнительную и второстепенную роль. В социальной системе явно существуют иные «общие правила» помимо «строгих законов» и воли суверена, очевидно, имеется определённое взаимодействие этих иных «общих правил» и права, причём иные «общие правила» явно шире «строгих законов». Право явно должно поддерживать тот фактический порядок, который обеспечивает и без вмешательства права устойчивость и развитие социальной системы. Несомненным достижением легизма является то, что мы имеем дело с чем-то «специальным» внутри системы, и это «специальное» для системы необходимо. Выводы легистов о возможности властного вмешательства показывают тот важный факт, что право может проявить и деструктивную роль, может помешать устойчивости социальной системы, либо её развитию. То есть, у права есть некая автономность, что говорит о наличии контрольной системы и возможности вмешиваться в сложившийся порядок.
— Нормативизм.
«Общие правила» могут быть разнообразными, но проявляют однотипное регулятивное свойство в виде оценки поведения и вменяемых последствий.
Характер права связан с необходимостью более точной оценки поведения и более точного вменения последствий, но не выходит за рамки общего принципа, как необходимости регуляции всей социальной системы в целом. Более точная регуляция, очевидно, требует особых элементов в социальной системе, ответственных за такую регуляцию, и такие элементы системы должны быть идеальны, чтобы регуляция была точной, адекватной. В сложной системе идеал недостижим, соответственно, должен быть механизм «стремления к идеалу», что-то, что в разнородных и взаимосвязанных колебаниях задаёт общий тон, общее направление.
Общий тест:
Оценка поведения и применение санкции присутствуют и на биологическом уровне, например, когда вожак наказывает члена стада за недопустимое поведение. Это ещё не право, к тому же характерно, что в животном стаде наказание следует непосредственно сразу же за проступком.
Отождествление права с моралью показывает, что в социальной системе правила поведения отличаются от биологических тем, что оценка поведения проходит стадию определённого осознания, «интеллектуальной обработки», и это приводит к тому, например, что санкция наступает не сразу, требуется определённая интеллектуальная оценка, требуется так же максимально широкое (публичное) тиражирование этих интеллектуальных усилий и выводов. Понимание в нормативизме санкции как не только негативного воздействия, но и как положительного результата, либо одобрения, показывает, что право существует как цельносистемное явление, стремиться проявиться в социальной системе максимально широко.
— «Материалистическая» теория.
Социальная система неоднородна, в ней есть определённые группы, связанные общими интересами, имеет место конфликтность, напряжённость и «общие правила» используются в этой борьбе как способ подавления одних групп другими, захватившими ведущие позиции в распределении ресурсов и удерживающих эти позиции.
Характер права связан с этими конфликтами групп внутри социальной системы, право обеспечивает подавление одних групп другими, но может служить и для прогрессивных целей.
Общий тест:
Не остаётся места для проявления свободной воли, получается, что любой элемент социальной системы должен постоянно бороться и вызывать революционную ситуацию. Это ставит знак равенства между социальными законами и законами костной материи, поскольку и там и там возникает фатальная необходимость. Построение общества социальной справедливости на фоне такого подхода оказывается неясным и утопическим, а рецепт ограничения свободы на основе борьбы порождает явный сценарий для такого утопического общества, требующих увлечь всех этой борьбой, чтобы понудить двигаться в нужном направлении.
Социальная система, тем не менее явно имеет напряжённость в социальных связях, в том числе и конфликтную напряжённость, но не только. Напряжение усилий может быть и для достижения каких-то трудных целей (полёт в космос, постройка крупных объектов, победа над противником в игровом противоборстве и др.). Факт напряжённости социальной системы важен, так как скорее всего при полном отсутствии этой напряжённости, так сказать при обществе «максимального благоденствия каждого», своеволие станет фатальным. Таким образом, напряжённость связей в социальной системе является неправовым способом обеспечения её целостности и право, наверняка, будет способствовать этой напряжённости, поскольку будет обслуживать целостность социальной системы. Однако, предельная напряжённость остановит творчество, так как обеднит возможности выбора. Очевидно, должен быть способ расширения выборов, при сохранении напряжённости. Характер социальной системы как распределителя ресурсов так же важен и говорит о материальных основах социальной системы, которые так же во многом определяют «общие правила» не являющиеся правом.
— Социологическая теория.
«Общие правила» существуют сами по себе как необходимость коллективного выживания, они имеют характерные черты, соответствующие сложившемуся своеобразию разных народов и групп (разных социальных систем и подсистем).
Характер права связан с компромиссом между социальными группами и индивидами, при этом право может быть, как сложившейся практикой, так и навязанным правилом (законом), последний необходим там, где нет приемлемой необходимой для социальной системы практики. Закон используется как необходимый компромисс в интересах целостности и развития системы, там, где это не может быть обеспечено сама по себе.
Общий тест:
Сложившаяся практика может существовать и без права, она явно не является правом. Сам факт коллективного выживания показывает связь с материальным, со средой, природой, полезными ископаемыми, природными ресурсами. Но человек не является «винтиком» социального механизма. Напротив, усложнение социальной системы происходит синхронно с увеличением личной свободы. Наименее свободным, фактически «винтиком» человек являлся в первобытных сообществах, там, где права не было, но был сильный прессинг окружающей среды, и была жестокая необходимость выживания, причём выживание было возможно только в составе группы, при полном подчинении групповым нуждам.
Право, таким образом, не только компромисс, который диктует «общие правила», право служит ещё и расширению возможных вариаций поведения при сохранении целостности системы. Очевидно, именно право обслуживает этот парадокс, когда свободы расширяются, при этом социальная система усложняется, но сохраняет целостность. Значит, согласование внутри системы не всегда осуществляется правом на основе компромисса, право должно создавать и охранять пути для выражения свободы и развития (даже само право не чуждо правовым экспериментам, когда новые возможности правового регулирования проверяются экспериментальным путём). Соответственно, закон может и воспрепятствовать устоявшейся социальной практике, даже преследовать её. Собственно, и сама социологическая теория права говорит о возможности «социальной инженерии», но не называет внутрисистемные возможности для этого (что видимо и приводит к торжеству нормативизма, или даже легизма, которые говорят о воле «суверена», воле некоего социального контролёра, стоящего над самим социумом). Это противоречие в социологической теории права говорит о том, что внутри социальной системы есть возможность для перестройки и развития, установления новых социальных практик, данный факт подлежит раскрытию и анализу в целях понимания права.
— Коммуникативная теория.
«Общие правила» есть связь внутри системы, являются её коммуникациями, тем, что связывает элементы системы воедино.
Характер права проявляется в процессе выдачи, передачи и восприятия информации элементами системы. Этот процесс естественный, без него система не существует. Соответственно, любая подобная значимая коммуникация является правом.
Общий тест:
Фактически, получается то же самое, что и при проверке нормативизма (как не странно). Опять же коммуникации существуют и в животном стаде и тоже имеют значимость. Пожалуй, обе теории имеют информационный характер, только нормативизм анализирует саму правовую информацию, так сказать «изнутри», а коммуникативная теория показывает информацию как связи социальной системы. При этом заметно подозрительное сходство между порождением информации, её восприятием и результатом этого, о чём говорит коммуникативная теория, со структурой правовой нормы, которая имеет некую ценность (гипотезу), диспозицию и санкцию. Коммуникативная теория, в отличие от нормативизма, даёт ответ на вопрос о том почему норма может быть «действительной», то есть безупречной с точки зрения правовой информационной структуры, но при этом совершенно «недейственной», то есть, не совершает необходимого социального воздействия. Это происходит потому, что разорвано коммуникативное единство высказывания-информации-понимания-реализации. Система просто «не понимает», либо «не реализует». Но почему? Видимо, как раз потому, что существует своеволие элементов системы, и не только своеволие, элементы просто могут быть не готовы. Например, не способны понимать информацию на компьютере, либо не иметь ресурсов для реализации. Факт интересный и показывает, что право может быть автономно, может предъявлять пусть и правильные, даже прогрессивные требования, но социальная система на них не реагирует. Значит, право связано с теми элементами системы, которые обслуживают её внутреннее отражение, связано с образом самой системы, который позволяет системе словно бы осознавать себя, например, позволяет восстановить утраченные элементы системы, либо позволяет достраивать элементы, которые ранее не существовали. Коммуникативная теория, в отличие, от материалистической или социологической, явно предполагает определённую внутреннюю структуру социальной системы, но не описывает этой структуры.
— Естественная теория (юснатурализм).
«Общие правила» являются естественной необходимостью социального существа, они определены изначально природой или творцом, как присущее человеку свойство.
Характер права есть справедливость, которая естественно необходима для выживания человека социального, не существующего без социума. Соответственно, право это должное в интересах естественной социальной жизни поведение, которое в силу естества описывается определёнными правилами и естеству-справедливости противоречить не может.
Общий тест:
Получается, что все социальные системы должны быть однотипными, разные страны и народы должны порождать в принципе одинаковые социальные структуры и однотипную системность. Опять получается, что свобода воли не учитывается и всё сводится к природным законам. Обнаруживается сходство с исторической школой права и частично с социологической теорией права. Однако, явно противоречащие природе человека социальные системы, очевидно, должны проигрывать тем социальным системам, которые природу человека учитывают более полно. Не в этом ли кроется секрет того, что одни страны развиваются быстрее, а другие медленнее? Но развитие имеет материальную основу, соответственно, вновь приходим к необходимости понимания социальной системы как связанной с природной средой массовой организованной деятельностью, создающей и развивающей как своё окружение, так и саму себя.
— Реалистический позитивизм Р.А.Ромашова.
Право является особой комплексной деятельностью внутри социальной системы. Эта деятельность фактически стремится к определённым целям-ценностям, накапливает и формулирует опыт взаимодействия, применяет его на практике, приобретая новый опыт, вырабатывая новые цели-ценности и т.д. Весь смысл этой деятельности в регулировании социальной системы, охране её целостности, дальнейшем развитии.
Характер права таким образом проявляется в том, что изнутри социальной системы над этой системой ведётся работа. Данная работа осуществляется в направлениях поощрения необходимого для системы функционирования её элементов, либо в определении допустимых пределов такого функционирования, либо в пресечении недопустимого.
Общий тест:
Собственно, концепция близка к легизму, поскольку кто-то должен осуществлять целенаправленную деятельность, и это какой-то контролирующий систему элемент, или суверен (как не назови). Так же просматривается близость к взглядам Томаса Гоббса, при том, что реалистический позитивизм позиционирует себя как подход, основанный на правовой практике, эта концепция не называет конкретных акторов и сущность их деятельности, но просто основывается на том, что есть правоприменительные органы, которые могут действовать как во благо, так и во вред. При декларируемом отмежевании от чистого позитивизма реалистический позитивизм также не определяет социальных механизмов права, рассматривая его как чистую сущность, но, указывая, что эта сущность проявляется прежде всего эмпирически, на практике, в деятельности юристов, в конкретной политике правительства. Остаётся непонятным до конца как право умудряется обеспечивать свою роль. Однако, то что право рассматривается как социальная деятельность особого рода, то что названы общесистемные по сути функции права, является несомненно ценным. Тем не менее, раз есть явно общесистемные функции, причём присущие любой системе, должна быть и привязка этих функций к бытованию самой системы, к её функционированию, чтобы завершить картину. Иначе получается, что имеется деятельность (общественная работа) но работник остался за кадром, или за ширмой (как в кукольном театре). Видимо тут проявляется ещё и разочарование от существующей в стране правовой реальности, так как реалистические позитивисты очень жёстко критикуют современное правоприменение в России. Получается в итоге стремление к некоему идеалу, справедливости, но разочарование в реалиях. Отсюда остаётся всего один шаг до вывода о том, что только абсолютный монарх может обеспечить справедливость, поскольку только он не подвержен политическим влияниям, то есть, опять возвращаемся к воззрениям Томаса Гоббса. Может быть и не монарх, но идеализм явно просматривается в реалистическом позитивизме, словно предполагается, что как-то эта деятельность должна быть разумной, только непонятно как. Между тем вряд ли целенаправленная деятельность будет всегда осуществляться впустую, и даже в этом противоречии реалистический позитивизм показывает важный факт – связь права с политикой, где последняя может вполне довести правовую практику до состояния, которое вызывает крайнее разочарование. Таким образом, в социальной системе автономия права может быть нивелирована, право при этом остаётся автономным, но «перехватывается» в социальной системе теми, кто может действовать вопреки очевидным задачам социальной системы. А раз этот факт осознаётся и вызывает подобную реакцию, значит, право имеет ответную политическую силу, что тоже крайне примечательно с точки зрения анализа социальной системы и роли права в ней.

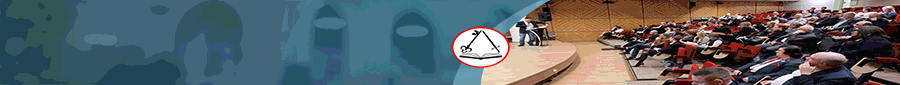

Уважаемый Владислав Александрович,
Это ЧТО?:(
Диссер?:)
Конспект?:)
Применение конституционного права на выражение собственного мнения?:)
С уважением,
Уважаемый Юрий Борисович, это диспут с коллегами, но чтоб понять о чём он нужно найти самую первую публикацию в группе и начать с неё.
Уважаемый Владислав Александрович,
Начал поиск:)
Уважаемый Юрий Борисович, да всё просто, зайдите в опции «Группы» и найдите группу «Юридическая наука» или пройдите на самый верх статьи, выше неё нарисован такой глобус и написано «Юридическая наука» — тыкните в эту надпись.