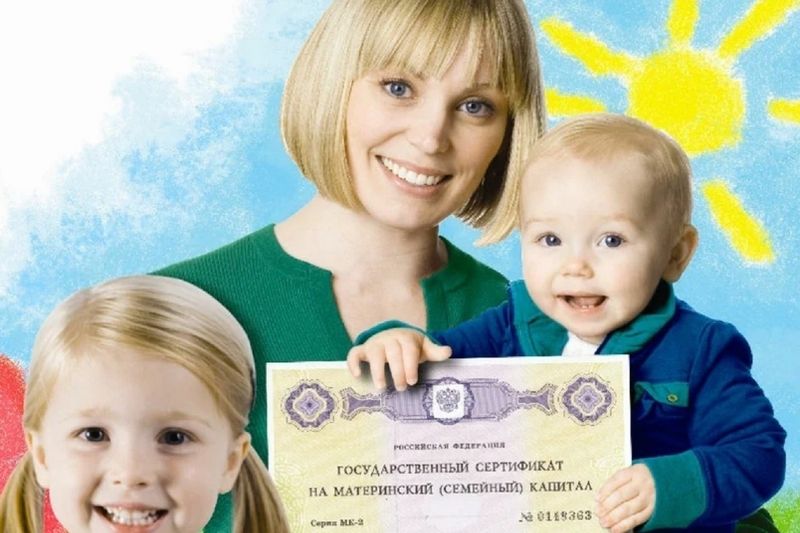
Несколько дней назад на мою рабочую электронную почту пришло письмо от незнакомой мне женщины с просьбой ответить на правовой вопрос.
Прошлый год, как говорится, не задался, поэтому я эту клиентку сходу в памяти воспроизвести не смог. Покопался в своей почту и по ее электронному адресу отыскал в архиве несколько писем из содержания которых стало понятно, что она, вроде как, была у меня на консультации, потом таким же образом через электронную почту задавала мне еще несколько вопросов. Все вопросы были связаны с разделом имущества. С моей стороны они не остались без ответа, я даже запросил у нее судебный акт для изучения. То есть, наш диалог носил, как мне показалось, конструктивный характер. Очную консультацию, скорее всего, она оплачивала, потому как иного и не могло быть, а заочные, честно говоря, не помню.
Поскольку, как мне показалось, в прошлый раз мы остались друг другом довольны, я решил ее письмо не оставлять без ответа и заявил о готовности проконсультировать ее, если она, в свою очередь, готова оплатить мой труд. Но… В этот раз наша переписка на этом и завершилась!
Ну, на нет, как говорится, и суда нет!
Однако, последние пару дней преследует меня необъяснимое чувство внутреннего дискомфорта. С одной стороны, вроде и упрекнуть себя не в чем, поскольку я искренне убежден, что бесплатный труд делает из человека обезьяну, с другой стороны…
Короче, я решил договориться со своей совестью и предложить ей (совести) компромисс, — изложить свое мнение по поднятому вопросу на Праворубе, а инициатору запроса направить ссылку на эту публикацию. Поскольку вопрос более, чем актуальный и, я думаю, не у нее одной он возник. Может быть, мое мнение окажется полезным еще кому-нибудь. Опять же, если я окажусь не прав, коллеги подключатся к дискуссии, поправят меня и истина восторжествует. Ну, а барышне достанется бонус за то, что подняла актуальный вопрос!
Суть ситуации в том, что по решению суда между бывшими супругами, имеющими общих детей, решением суда было разделено совместно нажитое в браке имущество в виде квартиры. Раздел произведен таким образом, что бо́льшая доля в праве, с учетом интересов детей, была предоставлена супруге, меньшая, соответственно, супругу. Вопрос состоит в следующем — может ли супруга выкупить долю в праве собственности на квартиру у бывшего мужа с использованием материнского капитала.
Преимущественное право покупки (ст. 250 Гражданского кодекса РФ) оставляем в покое, поскольку и так понятно, супруга – сособственник.
Мнение консультирующих супругу специалистов, с ее слов, сводится к тому, что она не может таким образом распорядиться материнским капиталом, поскольку бывший супруг после расторжения брака, хоть и не член ее семьи, но детям отец и вследствие этого произвести выкуп доли за счет средств материнского капитала нельзя.
Вопрос мной до этого плотно не был охвачен, но, поскольку пересекается в данном случае с правами на недвижимое имущество, заинтересовал.
Регулируется он в целом положениями Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ (в редакции от 22.12.2020) «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее — Закон).
Частью 1 статьи 3 этого Закона установлено, что
право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у следующих граждан Российской Федерации независимо от места их жительства:
1) женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 1 января 2007 года;
2) женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки;
3) мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2007 года;
4) женщин, родивших (усыновивших) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года;
5) мужчин, являющихся единственными усыновителями первого ребенка, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2020 года.
Часть 3 этой же статьи определяет, что право женщин, указанных в части 1 настоящей статьи, на дополнительные меры государственной поддержки прекращается и возникает у отца (усыновителя) ребенка независимо от наличия гражданства Российской Федерации или статуса лица без гражданства в случаях смерти женщины, объявления ее умершей, лишения родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, совершения в отношении своего ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности и повлекшего за собой лишение родительских прав или ограничение родительских прав в отношении ребенка (детей), а также в случае отмены усыновления ребенка, в связи с усыновлением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки. Право на дополнительные меры государственной поддержки у указанного лица не возникает, если оно является отчимом в отношении предыдущего ребенка, очередность рождения (усыновления) которого была учтена при возникновении права на дополнительные меры государственной поддержки, а также если ребенок, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, признан в порядке, предусмотренном Семейным кодексом Российской Федерации, после смерти матери (усыновительницы) оставшимся без попечения родителей.
Извиняюсь, что привожу положения закона в полном объеме, понимаю, что это делает материал более сложным для восприятия, но на мой взгляд, это важно, поскольку именно эти две нормы формируют исчерпывающее представление о субъектах, имеющих право распорядиться материнским капиталом. Закон предусматривает и иные субъекты, но они — производное от главного.
Здесь важно отметить, что доминирующим субъектом закон определяет женщину. Мужчины становятся правообладателями только под условием или в случае прекращения права женщины.
Далее, в соответствии с ч. 1 ст. 7 Закона, право распоряжения средствами материнского капитала предоставлено именно указанным выше лицам, а часть 3 этой же статьи устанавливает направления распоряжения материнским капиталом, в том числе – улучшение жилищных условий, то есть, интересующее нас для разрешения поставленного вопроса.
Для того, чтобы окончательно его разрешить, следует обратиться к Постановлению Правительства РФ от 12.12.2007 № 862 (в редакции от 16.04.2021) «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий». Конкретно, к его пункту 15(1), в соответствии с которым лицо, получившее сертификат, или супруг лица, получившего сертификат, обязаны оформить жилое помещение, приобретенное (построенное, реконструированное) с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга и детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев. Далее следуют пункты, определяющие моменты от которых следует отсчитывать эти шесть месяцев, но в данном случае не это главное.
Главное – это на кого должно быть оформлено это жилое помещение (в нашем случае доли в праве на это помещение). Еще раз, — это лицо, получившее сертификат, его супруг и дети (в том числе первой, второй, третий ребенок и последующие дети).
Как видим, нет в Законе и в Постановлении Правительства РФ никаких «отцов детей»! Соответственно, нет никаких препятствий для моей не состоявшейся клиентки приобрести доли в праве собственности на квартиру у бывшего супруга. И он при этом не сможет претендовать на долю в приобретенном за счет средств материнского капитала недвижимом имуществе, поскольку он уже «бывший» супруг.
Буквальное толкование указанных выше нормативных актов говорит о том, если бы наша барышня вновь зарегистрировала брак с другим мужчиной, не отцом ее детей, то у него было бы больше прав претендовать на долю в таком имуществе, чем у отца детей.
Уважаемый Владимир Борисович, вот что мне мерешится. Барышня при условии разрешения покупает долю БС. На фоне успешной сделки и весенних чувств оживает взаимное влечение и бээсы воссоединяются, продолжают счастливую, семейную, так сказать, совместную жизнь...
Дальше представлять что может начаться в стране, включая относительное равенство разлучек и рождений, не представляется чересчур трудным
Уважаемый Курбан Саидалиевич, не знаю, не знаю… Как-то нынче народ после разделов имущества плохо сходится.
Думается мне, условия современности не располагают ходить по граблям.
Спасибо за внимание к публикации!
Уважаемый Владимир Борисович, рассуждения Ваши я считаю правильными, но ПФ может отказать в направлении бывшему супругу средств материнского капитала на оплату приобретенной бывшей супругой и их общими детьми его доли в квартире, под предлогом установленного через ст. 37 ГК РФ запрета возмездных сделок между несовершеннолетними и их близкими родственниками (к коим относится их отец). Кстати и Росреестр бывает, что не пропускает такие сделки по той же причине. Придется тогда глотать пыль в судах. А это дополнительные хлопоты.
↓ Читать полностью ↓
МУРМАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 12 июля 2017 г. N 33-1974-2017
судья Исаева Ю.А.
Судебная коллегия по гражданским делам Мурманского областного суда в составе:
председательствующего Пырч Н.В.
судей Койпиш В.В.
Кутовской Н.А.
при секретаре Таушанковой Н… С.
рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по иску П.Е. к Государственному учреждению — Управление пенсионного фонда Российской Федерации в Кольском районе Мурманской области об оспаривании отказа в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и обязании перечислить средства материнского (семейного) капитала в счет исполнения договора купли- продажи квартиры
по апелляционной жалобе ответчика Государственного учреждения — Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Кольском районе Мурманской области на решение Кольского районного суда Мурманской области от 25 апреля 2017 года, по которому постановлено:
«исковые требования П.Е. к ГУ — Управление пенсионного фонда Российской Федерации в Кольском районе Мурманской области об оспаривании отказа в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и обязании перечислить средства материнского (семейного) капитала в счет исполнения договора купли-продажи квартиры удовлетворить.
Признать незаконным и отменить решение Государственного учреждения — Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Кольском районе Мурманской области * от _ _ об отказе П.Е. в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.
Обязать Государственное учреждение — Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Кольском районе Мурманской области направить средства материнского (семейного) капитала П.Е., предусмотренные Государственным сертификатом серии *** *, в размере 428 000 рублей, на погашение суммы долга по договору купли-продажи жилого помещения от _ _, заключенного между П.А. и П.Е., действующей в своих интересах и интересах несовершеннолетних детей Ч.А., П.Е., перечислив их на расчетный счет продавца П.А. *, открытый в дополнительном офисе * ПАО „Сбербанк России“, БИК *, кор/счет *».
Заслушав доклад судьи Койпиш В.В., возражения относительно доводов апелляционной жалобы представителя истца П.Е. — Ч., судебная коллегия по гражданским делам Мурманского областного суда
установила:
П.Е. обратилась в суд с иском к Государственному учреждению — Управление пенсионного фонда Российской Федерации в Кольском районе Мурманской области (далее — ГУ — УПФ РФ в Кольском районе) об оспаривании отказа в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и обязании перечислить средства материнского (семейного) капитала в счет исполнения договора купли-продажи жилого помещения.
В обоснование указала, что является матерью двоих несовершеннолетних детей: дочери П.Е. _ _ года рождения, и сына Ч.В., _ _ года рождения.
С _ _ по _ _ состояла в браке с П.А.
В период брака проживали совместно по адресу:… принадлежащей ее супругу П.А. на основании договора дарения.
_ _ ей выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал.
После расторжения _ _ брака с П.А. она как бывшая супруга права пользования указанной квартирой не сохранила, иного жилья на праве собственности она и дети не имеют.
_ _ между ней и П.А. заключен договор купли-продажи указанного жилого помещения, по условиям которого оплата должна быть произведена двумя платежами: 200 000 рублей из личных сбережений и 428 000 рублей в течение двух месяцев за счет средств материнского (семейного) капитала. Право собственности на приобретенное жилье зарегистрировано в установленном законом порядке.
В результате заключенной сделки она и дети стали собственниками по 1/3 доли в праве на жилое помещение, П.А. снялся с регистрационного учета, выехал из квартиры, совместного хозяйства с ним не ведется.
_ _ она обратилась к ответчику с заявлением о направлении средств материнского капитала путем перечисления на банковский счет продавца П.А.
_ _ решением ответчика от * в удовлетворении заявления отказано по причине того, что продавцом жилья выступает П.А. — отец одного из несовершеннолетних детей, а она и дети зарегистрированы в приобретенной квартире, что свидетельствует об отсутствии улучшения жилищных условий.
Просила обязать ГУ — УПФ РФ в Кольском районе направить средства материнского (семейного) капитала в счет исполнения договора купли-продажи жилого помещения от _ _ в размере 428 000 рублей путем перечисления на банковский счет продавца П.А.
Истец П.Е., извещенная надлежаще о дате и времени рассмотрения дела, в судебное заседание не явилась, просила о рассмотрении дела в свое отсутствие с участием представителя.
В судебном заседании представитель истца П.Е. — Ч. заявленные истцом требования поддержал.
Представитель ответчика ГУ — УПФ Российской Федерации в Кольском районе Мурманской области, надлежаще извещенный, в судебное заседание не явился, представил письменный отзыв, в котором полагал иск не подлежащим удовлетворению.
Привлеченный судом к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, П.А. в судебном заседании полагал заявленные истцом требования подлежащими удовлетворению.
Представитель третьего лица — отдела образования администрации Кольского района Мурманской области, о месте и времени рассмотрения дела извещенный надлежащим образом, в судебное заседание не явился, представил письменный отзыв, в котором поддержал требования истца.
Судом принято приведенное выше решение.
В апелляционной жалобе ответчик ГУ-УПФ РФ в Кольском районе Мурманской области в лице начальника Н., ссылаясь на нарушение судом норм материального права, просит решение суда отменить.
В обоснование жалобы приводит доводы, аналогичные изложенным в возражениях на исковое заявление.
Ссылаясь на пункт 1 части 1 статьи 10 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», статью 2, часть 3 статьи 60 Семейного кодекса Российской Федерации, статью 37 Гражданского кодекса Российской Федерации, указывает, что действующим законодательством установлен запрет на совершение сделок несовершеннолетних с близкими родственниками их законных представителей, за исключением передачи имущества в качестве дара или в безвозмездное пользование, независимо от того, происходит отчуждение имущества несовершеннолетних или нет.
Настаивает на том, что в силу закона отец П.А. не вправе совершать сделку продажи объекта недвижимости со своей несовершеннолетней дочерью, и, соответственно, мать ребенка не вправе по такой сделке выступать законным представителем несовершеннолетней П.Е.., _ _ года рождения.
Полагает, что передача отцом прав собственности на объект недвижимости своей дочери П.Е. возможна лишь на основании договора дарения.
В возражениях на апелляционную жалобу представитель истца П.Е. — Ч. просит решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу ответчика ГУ-УПФ РФ в Кольском районе — без удовлетворения.
В судебное заседание суда апелляционной инстанции не явились истец П.Е., представитель ответчика ГУ-УПФ РФ в Кольском районе Мурманской области, третье лицо П.А., представитель третьего лица — отдела образования администрации Кольского района Мурманской области, извещенные о времени и месте рассмотрения дела в установленном законом порядке.
Судебная коллегия по гражданским делам Мурманского областного суда, руководствуясь частью 3 статьи 167 и частью 1 статьи 327 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, считает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц, участвующих в деле.
В соответствии с частью 1 статьи 327.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд апелляционной инстанции рассматривает дело в пределах доводов, изложенных в апелляционных жалобе, представлении и возражениях относительно жалобы, представления.
Изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы и возражений, проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции, судебная коллегия оснований к отмене или изменению постановленного по делу решения по доводам апелляционной жалобы не находит.
Разрешая спор, суд правильно определил характер правоотношений между сторонами и закон, подлежащий применению при рассмотрении дела, на основании которого определил круг обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела по существу, собранным по делу доказательствам дал оценку в их совокупности в соответствии со статьей 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.
Реализуя предписания статьи 7, частей 1 и 2 статьи 38 и частей 1 и 2 статьи 39 Конституции Российской Федерации, федеральный законодатель предусмотрел меры социальной защиты граждан, имеющих детей, и определил круг лиц, нуждающихся в такой защите, а также условия ее предоставления.
К числу основных мер социальной защиты граждан, имеющих детей, относится выплата государственных пособий, в частности государственных пособий в связи с рождением и воспитанием детей.
В дополнение к основным мерам социальной защиты федеральный законодатель, действуя в соответствии со своими полномочиями и имея целью создание условий, обеспечивающих семьям с детьми достойную жизнь, предусмотрел различные дополнительные меры государственной поддержки семьи.
Так, в Федеральном законе от 29 декабря 2006 года N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» для таких семей предусмотрена возможность получения государственной поддержки в форме материнского (семейного) капитала.
Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 3 указанного Федерального закона право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 1 января 2007 года, независимо от места их жительства.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям, в том числе на улучшение жилищных условий.
В подпункте 1 пункта 1 статьи 10 приведенного Закона указано, что средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели.
В силу пункта 4 статьи 10 Закона жилое помещение, приобретенное (построенное, реконструированное) с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, оформляется в общую собственность родителей, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению.
Согласно пункту 6.1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией.
В соответствии с абзацем первым пункта 2 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 года N 862, лицо, получившее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (далее — сертификат), вправе использовать средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на приобретение или строительство жилого помещения, осуществляемые гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели.
Как установлено судом и подтверждается материалами дела, в период с _ _ по _ _ П.Е. состояла в браке с П.А., в период которого родилась дочь П.Е. _ _ года рождения.
Также у истца имеется сын от первого брака — Ч.А. _ _ года рождения.
С _ _ истец с несовершеннолетними детьми зарегистрированы по месту проживания в......, собственником которой являлся П.А. на основании договора дарения от _ _.
Решением мирового судьи судебного участка N 2 Кольского судебного района Мурманской области от _ _ брак между П.Е. и П.А. расторгнут, о чем _ _ отделом ЗАГС администрации Кольского района Мурманской области выполнена актовая запись *.
_ _ ГУ-УПФ РФ в Кольском районе Мурманской области П.Е. выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии *** * на сумму 408 960 рублей 50 копеек.
_ _ П.Е., действующая в своих интересах и интересах несовершеннолетних детей П.Е. и Ч.А.,, заключила с П.А. договор купли-продажи жилого помещения -......, стоимостью 628 000 рублей.
Согласно условиям договора часть стоимости квартиры в сумме 200 000 рублей уплачена покупателем за счет собственных денежных средств, оставшаяся часть в размере 428 000 рублей должна быть оплачена в течение двух месяцев с даты подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.
_ _ Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской области произведена регистрация перехода права собственности на жилое помещение, согласно выписке из ЕГРП П.Е. и П.П. и П.Ч. являются долевыми собственниками указанной квартиры по 1/3 доли, соответственно.
_ _ П.А. снят с регистрационного учета по указанному адресу.
_ _ истец обратился к ответчику с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, представив необходимые документы.
_ _ решением * ГУ-УПФ РФ в Кольском районе истцу отказано в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и оплату приобретаемого жилого помещения, поскольку по договору купли-продажи продавцом приобретаемого жилого помещения выступает П.А. — отец несовершеннолетней П.Е., _ _ года рождения, с рождением которой у истца возникло право на дополнительный меры поддержки семей, имеющих детей.
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Мурманской области согласилось с решением ГУ-УПФ РФ в Кольском районе.
Установив указанные обстоятельства, разрешая заявленные истцом требования, суд, руководствуясь приведенными нормами права, пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для отказа истцу в направлении средств материнского (семейного) капитала на оплату приобретенного жилого помещения и обязал ГУ — УПФР в Кольском районе Мурманской области направить средства материнского капитала П.Е. в размере 428 000 рублей на погашение суммы долга по договору купли-продажи жилого помещения от _ _, заключенного между П.А. и П.Е., действующей в своих интересах и интересах несовершеннолетних детей Ч.А. П.Е.
Оснований не согласиться с данными выводами суда первой инстанции, которые достаточно мотивированы, соответствуют установленным по делу обстоятельствам и согласуются с нормами материального права, регулирующими спорные правоотношения, судебная коллегия не усматривает.
В соответствии со статьей 27 Конвенции о правах ребенка (ратифицированной Постановлением Верховного Совета СССР от 13 июня 1990 года N 1559-I) государства-участники признают право каждого ребенка на уровень жизни, необходимый для физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития ребенка. Государства-участники в соответствии с национальными условиями и в пределах своих возможностей принимают необходимые меры по оказанию помощи родителям и другим лицам, воспитывающим детей, в осуществлении этого права и, в случае необходимости, оказывают материальную помощь и поддерживают программы, особенно в отношении обеспечения питанием, одеждой и жильем.
Согласно статье 40 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на жилище, никто не может быть произвольно лишен жилища.
В связи с чем, принимая во внимание, что обеспечение интересов детей должно быть предметом основной заботы их родителей, что несовершеннолетние дети не могут самостоятельно распоряжаться средствами материнского капитала, родители, опекуны (попечители), усыновители вправе самостоятельно воспользоваться правом распорядиться материнским (семейным) капиталом в интересах всей семьи, исходя из существующих потребностей семьи.
Из наименования и норм Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» следует, что данный Закон принят с целью дополнительного стимулирования и оказания государственной поддержки семьям, имеющим детей.
Давая оценку доводам сторон, суд первой инстанции верно указал, что обязательным условием всех совершаемых с материнским (семейным) капиталом сделок является их цель — улучшение жилищных условий заинтересованного лица. Под улучшением жилищных условий следует понимать приобретение или строительство жилого помещения (в том числе доли в жилом помещении). Приобретение жилого помещения может осуществляться посредством его покупки, обмена, участия в жилищных, жилищно-строительных, жилищных накопительных кооперативах и др. По смыслу закона в результате совершения сделки по приобретению жилого помещения должны фактически измениться в лучшую сторону условия проживания семьи, имеющей детей. Средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены на погашение обязательств по сделкам, которые были совершены исключительно с целью улучшения жилищных условий.
Материалами дела подтверждено, что в результате совершения сделки купли-продажи жилищные условия семьи истца очевидно улучшились.
При этом договор купли-продажи жилого помещения от _ _, заключенный между П.Е., действующей в том числе в интересах своих несовершеннолетних детей, и П.А., не противоречит положениям Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральному закону от 29 декабря 2006 года N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».
Как следует из материалов дела, приобретенная П.Е. и ее несовершеннолетними детьми квартира является благоустроенной, не находится в аварийном состоянии. Ранее истец и ее несовершеннолетние дети иного жилья в собственности не имели. Истец и ее несовершеннолетние дети фактически вселены в жилое помещение и зарегистрированы в нем по месту жительства. После совершения данной сделки истец и ее несовершеннолетние дети стали долевыми собственниками жилого помещения, обладающими всеми предусмотренными статьей 209 Гражданского кодекса Российской Федерации правами.
При таких обстоятельствах, учитывая фактическое целевое использование истцом средств материнского капитала, повлекшее улучшение жилищных условий семьи истца и возникновение долевой собственности на приобретенное жилье, отсутствие в Федеральном законе от 29 декабря 2006 года N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» ограничений в выборе способа улучшения жилищных условий, соответствие правоустанавливающего документа требованиям действующего законодательства, судебная коллегия полагает, что исковые требования П.Е. правомерно удовлетворены судом первой инстанции.
Приведенный в апелляционной жалобе довод со ссылкой на положения статьи 37 Гражданского кодекса Российской Федерации о том, что законом установлен запрет на совершение сделок несовершеннолетних с близкими родственниками их законных представителей, за исключением передачи имущества в качестве дара или в безвозмездное пользование, независимо от того, происходит отчуждение имущества несовершеннолетних или нет, являлся предметом рассмотрения и оценки суда первой инстанции и правомерно отклонен по мотивам, подробно изложенным в решении, которые судебная коллегия находит правильными.
Исходя из названия самой нормы статьи 37 Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующей условия распоряжения имуществом подопечного, требования которой пресекают всякую возможность нарушения имущественных прав несовершеннолетних со стороны опекуна (попечителя) и его близких родственников, судебная коллегия полагает, что указанная норма материального права не допускает отчуждение родителями несовершеннолетних имущества детей в свою пользу, а также не допускает отчуждение имущества несовершеннолетнего в пользу опекуна или иного заинтересованного в исходе сделки лица.
Тогда как в разрешаемом споре заключение договора купли-продажи совершено родителями несовершеннолетних в интересах детей, которые по условиям договора являются собственниками жилого помещения общей площадью 46,6 кв. м по 1/3 доли каждый, следовательно, жилищные права и интересы несовершеннолетних не ущемляются, а наоборот улучшаются, поскольку они приобрели полномочия собственника на указанное имущество, не имея такового ранее.
Судебная коллегия полагает необходимым отметить, что отказ ответчика, основанный на формальном исполнении Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, не соответствует целям Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и смыслу статьи 38 Конституции Российской Федерации, в соответствии с которой материнство и детство, семья находятся под защитой государства.
Доводы апелляционной жалобы по существу сводятся к несогласию с выводами суда и не содержат указания на обстоятельства и факты, которые не были проверены или учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы правовое значение для вынесения решения по существу спора, влияли на обоснованность и законность судебного решения, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем не могут служить основанием для отмены решения суда.
Не усматривается судебной коллегией и нарушений судом норм процессуального права, которые в соответствии с частью 4 статьи 330 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации являются безусловным основанием для отмены решения суда первой инстанции.
При таком положении судебная коллегия находит постановленное решение суда законным и обоснованным, оснований, предусмотренных статьей 330 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, к отмене или изменению решения суда, в том числе и по мотивам, приведенным в апелляционной жалобе, не имеется.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 199, 327, 328, 329 и 330 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия по гражданским делам Мурманского областного суда
определила:
решение Кольского районного суда Мурманской области от 25 апреля 2017 года оставить без изменения, апелляционную жалобу ответчика Государственного учреждения — Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Кольском районе Мурманской области — без удовлетворения.
Уважаемый Игорь Михайлович, с Вашего позволения, судебный акт полностью прочту завтра.Но резолютивная часть, как я понял, состоялась в пользу «наших»?Судебной критике было подвергнуто обстоятельство, связанное с наличием или отсутствием факта улучшения жилищных условий, который фонд пытался увязать с регистрацией по месту жительства.Думаю, это не правильно! Регистрация сама по себе никак не связана с жилищными условиями. При этом прекращение права пользования жилым помещением сособственником в связи с отчуждением своей доли в пользу другого сособственика, однозначно влечет за собой улучшение жилищных условий.Спасибо Вам за внимание к моему творчеству!
Уважаемый Владимир Борисович, суды в аналогичных ситуациях принимая решение в нашу пользу указывают, что сделка совершается не с имуществом принадлежащим несовершеннолетнему, а с имуществом которое ему раньше не принадлежало, т.е. фактически сделка направлена на приобретение в собственность несовершеннолетнего недвижимого имущества, что законом не запрещается.
Уважаемый Игорь Михайлович, как всегда, благодарю за судебную практику!!!
Уважаемая Татьяна Валерьевна, да не за что. Самому было интересно покопать судпрактику по этому интересному вопросу.
Уважаемый Владимир Борисович, я поддерживаю мнение Игоря Михайловича — вариант такого выкупа возможен, но без суда не обойтись, т.к. ПФР наверняка откажет.
Уважаемый Иван Николаевич, согласен, маловероятно, что ПФР продемонстрирует исключительную компетентность и правильно оценит такую сделку, а не займет традиционную для себя позицию.
Но ведь сделку с несовершеннолетними в рассматриваемом случае можно (и нужно!) исключить.
Никто не отменял ст. 250 ГК РФ для сделок с материнским капиталом. А мы помним, что бывшая супруга — сособственник квартиры и имеет перед детьми преимушественное право покупки оставшихся долей. Поэтому сделка с участием несовершеннолетних видится мне несколько противоречашей закону.
Логичнее и правильнее матери выкупить оставшиеся доли на себя, а затем, в соответствии с п. 15(1) Положения (на которое я ссылался) через 6 месяцев после того, как ПФР перечислит маткапитал продавцу, соглашением выделить доли детям.
В спорном случае, который привел из судебной практики уважаемый Игорь Михайлович, мамаше так же следовало поступить. В этом случае основания, по которым фонд отказал, не образовались бы.
Как считаете?
Уважаемый Владимир Борисович, сделка будет с использованием средств маткапитала, поэтому она в любом случае пройдёт через ПФР. Можно, конечно, оформить сначала без участия в ДКП несовершеннолетних детей, а потом дополнительно оформить Соглашение по долям. Полностью разделяю позицию Ширшова Игоря Михайловича. Судебный акт хорошо отписан.
Уважаемая Ольга Алексеевна, что сделка пойдет через ПФР, это очевидно.
Суть в том, что если дети в ней не участвуют, 37-я ГК РФ не будет работать и у фонда не будет повода отказывать в перечислении денег.
Разве нет?
Уважаемый Владимир Борисович, фонд может придраться в любом случае, даже если в сделке дети не будут участвовать, они принимаются во внимание 100%.
ст. 37 ГК РФ в данной ситуации не применяется и это предварительно можно донести до фонда. Например, приложить копию решения суда с этой позицией.
Уважаемая Ольга Алексеевна, поддерживаю!
Как то давно сталкивался с вопросом о невозможности использования маткапитала на приобретение доли недвижимости, в случае если оно не является изолированным. Разве закон изменился?
Уважаемый user289229, не совсем понимаю о чем Вы?
Уважаемый user289229,
Суды могут удовлетворить требования владельца сертификата, если посредством приобретения доли в праве собственности на жилое помещение улучшаются жилищные условия семьи, в том числе если (п. 5 Обзора, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 22.06.2016; Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 13.11.2018 N 48-КГ18-26; Апелляционные определения Московского областного суда от 14.01.2019 по делу N 33-1368/2019, от 03.04.2013 по делу N 33-6657/2013, Московского городского суда от 16.09.2015 по делу N 33-33357/2015):
• размер доли и площадь жилого помещения позволяют выделить в пользование семьи отдельную изолированную часть этого помещения (комнату или комнаты). При этом допускается приобретение доли в жилом помещении, в котором семья уже проживает на момент заключения сделки;
• в результате сделки в собственность семьи переходит полностью квартира, в которой ранее принадлежала только доля в праве собственности, или происходит увеличение имеющейся доли.
(СПС «КонсультантПлюс»)
Уважаемый Игорь Михайлович, спасибо за комент
Уважаемый user289229, да не за что.
Разве закон изменился?Закон не изменился, а вот судебная практика как флюгер
Уважаемый Владимир Борисович, такая сделка возможна. Я описывал похожую ситуацию здесь. Суд признал возможным выкуп между родителями за мат капитал.
Уважаемый Николай Васильевич, спасибо за комментарий! Действительно, правовой проблемы, как таковой нет.
Я считаю, что сделку нужно заключать, а дальше действовать по ситуации.
Исключить полностью некомпетентность сотрудников фонда, а так же их корпоративную позицию, связанную со стремлением как можно меньше отдать денег из бюджета, конечно, нельзя. Но и ориентироваться на фонд — значит дуть на холодную воду.
Уважаемый Владимир Борисович, вот опять же из примера Уважаемого Николая Васильевича следует, что в аналогичной ситуации избежать суда будет совсем непросто.
Я считаю, что сделку нужно заключать, а дальше действовать по ситуации.Я полагаю, что предварительный «визит вежливости» адвоката/юриста в ПФР перед или после совершения такой сделки может помочь избежать судебной волокиты. Если профессионал продемонстрирует, что доверитель настроен решительно, и сошлется на многочисленную судебную практику, то, возможно, ПФР не будет вставлять палки в колеса такой сделке.
Уважаемый Игорь Михайлович, я сам в ПФР давненько не появлялся, но последний (в этом году) визит моей коллеги в эту структуру по поводу какого-то пособия, которое они должны выплачивать принес примерно следующий результат.
Специалист фонда, не посмотрев даже в удостоверение адвоката, сказала, что ей все равно и все едино, они в подобных ситуациях всегда действуют однообразно, то есть отказывают, и подвела итог — будет решение суда, заплатим.
Поэтому, на мой взгляд, все зависит от корпоративной практики фонда в конкретном регионе.
Поэтому, как мне кажется, вероятность внесудебного разрешения подобной ситуации в случае появления на территории фонда юриста со своим мнение настолько мала, что это будет напрасной тратой времени.
Здесь, конечно, на вкус и цвет, как говорится… Кто какие приемы использует в своей работе и как складываются отношения с доверителем. Я бы на такие визиты время тратить не стал.