
На фоне нынешней смуты люди стали отзываться о далёком брежневском времени с щемящей тоской в груди и некоторой сентиментальностью во взоре. Действительно, по сравнению с нынешними ворюгами-чиновниками и миллионерами-стервятниками прошлое стало казаться как нечто сказочное, пушистое, по-детски наивное и трогательное. Но так ли это было трогательно на самом деле в то далёкое советское время и для тех живших в эту «тихую сказочную эпоху» людей? Это время в историографии нашего поколения вошло под названием «брежневский застой». Так определили его те, кто стоял на высшей ступени политических и политологических анализов и советской мемуаристики.
В описанный период я работал в военной прокуратуре: сначала был помощником военного прокурора Первой танковой армии в гор. Дрездене, а затем последовательно помощником военного прокурора Группы советских войск в Германии (ГСВГ) и исполняющим обязанности начальника отдела общего надзора в этой же прокуратуре (с. Вюнсдорф). Так вот, находясь в то время в низах этих самых «политических и политологических анализов», лично я не увидел в нём ни застоя, ни тихой гавани золотой коммунистической эры, которая рисовалась в отчетных докладах правящей партии и передовых статьях главной советской газеты «Правда».
В том лишь на первый взгляд спокойном времени я ощущал всеми фибрами своей души закипающий котёл социально-политических противоречий и грядущих катаклизмов нашего советского государства. До поры до времени в этом котле скапливалась мощнейшая энергия тёмных сил советского общества: люди с «двойным дном» и проходимцы разных мастей, карьеристы и коррупционеры, жулики и спекулянты, фарцовщики и контрабандисты, политиканы и демагоги, очковтиратели и болтуны, приспособленцы и трусы, негодяи и всякая иная сволочь. Их объединяло одно – беспримерный эгоизм и стремление к праздной жизни за счёт других, не пренебрегая и преступными методами. Брежневское время для них стало золотым временем расцвета, эпохой безнаказанного и беззастенчивого воровства и накопления первоначальных капиталов.
Затаившись под сенью гнилой государственности, под спокойной пеной экономической неразберихи они ожидали своего часа, чтобы выброситься наружу и, привлекая на свою сторону народное негодование, смести не угодные им и ещё остающиеся преграды, установить собственную криминальную власть в стране и господство мафиозно-воровского теневого капитала. Эти свои ожидания по мере приближения к «часу икс» они постепенно приоткрывали для всеобщего обозрения и привыкания к ним всей остальной публики. В «брежневском застое-котле» я видел своими глазами, как варились невиданные доселе вселенские процессы распада страны, вековых традиций и устоев русского народа. Развариварись и разлагались элиты, увядали цветы нации, разрушались моральные и нравственные принципы, материально-техническая база и всевозможные социальные и политические надстройки.
И всё это происходило внутри самого общества, в самих низах его. Процессы неосознаваемые, и, казалось бы, … неуправляемые. Дескать, историческая обусловленность безжизненности социально-экономической формации. Но дело не в формации, которая на самом деле была и жизненной, и исторически верной. Да-да, именно исторически верной. Ведь живут же ныне многие страны при настоящем социализме. Жили бы и мы. Да и не требует доказательств тезис классиков о бесперспективности капиталистического способа производства, основанного на эгоизме индивида.
Развал Советского Союза и все процессы, с ним связанные, были хорошо управляемыми и серьёзнейшим образом подготовленными. Экономика, идеология, всеохватывающая политическая ложь, методы государственного и партийного управления постепенно становились задействованными в них и не давали народу ни осознать свою роль, ни встать на защиту собственных завоеваний. Подобные попытки нещадно пресекались, а все силы общества, в том числе его здоровые кадры в правоохранительных структурах, где проходила моя служба, исподволь, незаметно для них самих превращались в силы защитников этих процессов. По известному закону философии всё обращалось в свою противоположность.
В недрах общества, в глубинах и потайных затворах его происходили накопления огромных теневых капиталов, приобретался опыт их сокрытия, перемещения за границу, в «тихие гавани» и оффшоры, отрабатывалась методика профессиональной защиты от народа криминальных богатств, нарастали могущество и силы преступного бизнеса будущей буржуазии и государственных чиновников-феодалов. Многие прогрессивные представители нашего общества пусть даже не осознанно, интуитивно, но чувствовали, что творится что-то неладное и всячески сопротивлялись этому. Сопротивлялись, исходя из своих нравственных устоев, понимания честности, справедливости, истины. Таких было много: и в органах государственной власти, и в партийных рядах, и среди интеллигенции, и в правоохранительных структурах.
Я тоже происходившее воспринимал близко к сердцу и в меру сил старался охватить всё это своим разумом.
А потому то, о чем пойдет речь в настоящих записках, — не только увиденное, но и пропущенное через чувства, глубокие переживания и всегда бурлящую мысль. Именно на этих размышлениях в их сопоставлении с действительностью построены мои личные авторские оценки происходящего. Именно по такому принципу описывается деятельность правоохранительных органов, конкретных следователей, прокуроров, судей, народных контролёров, других государственных чиновников, с которыми приходилось иметь дела.
Я видел, как в меру сил, энергии и здоровья многие люди пытались всячески противостоять надвигающимся опасностям и катастрофам. В этих записках повествуется об обычных русских гражданах, с которыми я встречался, о прокурорах и следователях – моих товарищах, о друзьях, сослуживцах, которые старались затормозить ход разрушительных процессов, наносили в том числе и ощутимые мощные удары по деструктивным силам советской эпохи, криминалу, партийной номенклатуре, хозяйственной мафии.
Но что малочисленная кучка неравнодушных людей, которые постепенно начинали понимать происходящее, могли сделать против тех, кто подкидывал всё больше и больше поленьев в разгоравшийся котёл исторического варева. Советская государственная система на наших глазах вставала на защиту зарождавшегося нового криминального класса. Страну усиленно готовили для контрреволюционного броска и переворота, пестуя на глазах свежие силы. И новых маршалов. На этот раз «маршалов поражения».
«Цинично дублёночная окраска»
Наибольший урон обществу наносился разложением в нём нравственных начал человеческого существования. Слова, взятые в название настоящей части моих записок, принадлежали моему руководителю — прокурору ГСВГ генералу Попову Борису Сергеевичу, который ими характеризовал всё возрастающую рать советских обывателей с пораженными нравственными качествами, с деформированной душонкой циников и крохоборов. Плеяда этих людей была всецело поглощена стяжательством, скупкой всякого рода шматья, спекуляцией и другими подобными делишками, превращая свою жизнь в безостановочный конвейер накопительства.
Говоря об этих качествах, он прокладывал от них прямую дорогу к тому явлению, которое через двадцать-тридцать лет полностью захлестнёт нашу страну – к коррупции. Конечно, нынешняя власть в этом отношении превзошла прежнюю в тысячи раз. Но от этого прежняя власть страны менее кошмарной не считается, поскольку именно из отношения советской элиты к своей стране и к финансовой чистоплотности и выросло все поколение нынешних негодяев, захвативших в 1991 году власть в свои руки.
В том, что произошло со всеми нами, со страной, с её народом, вина полностью лежит на элите советского времени, на безнравственных и аморальных стандартах поведения, культивируемых среди своих и запрещаемых среди остального люда. Всё, описанное мною в настоящих записках, это рецидивы жизни и поведения элитарного общества СССР.
Да, мной в пример приведены рецидивы, которые я увидел в среде советских граждан в ГСВГ. Баулы «мечта оккупанта», отложки товаров для их уценки до нулевой величины стоимости, массовые, приобретшие черты эпидемии, работы советских солдат на немецких предприятиях и воровство начальниками заработанных ими денег – всё это мрачные реалии советской действительности. Этими реалиями до краёв была переполнена тогдашняя жизнь советских людей, в данном случае тех, кто проживал за границей.
Глядя на всё это, закрадывалась крамольная мысль, что советской элите существование ГСВГ, было нужно, чтобы вдали от глаз своего народа извлекать все блага социализма, совершенно бесконтрольно проворачивать свои тёмные делишки по перемещению баснословных государственных средств, богатств в свои карманы. То, что ГСВГ якобы стояла на защите страны на западном театре, всё это ныне выглядит беспрецедентной чушью, ибо и без ГСВГ никто из вероятных врагов нашей страны даже не пытается двинуть в её сторону ни танки, ни самолёты, ни корабли.
Если надо разрушить государство, достаточно полностью нравственно и морально разложить его чиновничество, а затем купить его с потрохами. Как говорил великий полководец древности Филипп Македонский, отец Александра Македонского, «нет такой крепости, которую не взял бы осёл, гружёный мешками с золотом!» И тогда не придётся вводить ни танки, ни пехоту. Что мы сегодня воочию и видим, констатируя переход основного промышленного потенциала страны в собственность иностранных и оффшорных компаний без войны и какого-либо военного искусства.
Чем можно охарактеризовать те годы моей службы в Дрездене и Вюнсдорфе? Разложением государственной власти, которое происходило путём насаждения потребительской морали и образа жизни среди всех советских граждан, особенно высшего руководства. Те, которым удавалось в этом деле вырываться вперёд, за счёт общенародной собственности формировали свои первоначальные накопления для последующего рывка к капиталистической формации и строительства своих собственных империй. И те, кто становился на их пути, порядочные советские люди, прокуроры, следователи беспощадно убирались с дороги.
Уже в начале восьмидесятых годов гидра накопительства, мошенничества, жульничества в стратегических масштабах обладала такой мощью, что фактически принимаемые и действующие законы и правоохранительные органы не имели ни сил, ни средств, чтобы со всем этим совладать. Но даже, если иной раз в локальном масштабе удалось побеждать коррупцию, местную советскую буржуазию и партийных теневиков, то идеологически здоровые силы в масштабе всей страны проигрывали подчистую. Ибо все видели жизнь «параллельного мира» власти, но ничего не могли с ним поделать.
«Параллельные» нагло и цинично смеялись в глаза и торжествовали в своём победном марше. В моих записках описывается жизнь в ГСВГ, малочисленность и бессилие правоохранительных органов стать на пути теневому советскому капиталу. Но такое же точно творилось и в других группах войск. После Германии, когда я работал уже в Главной военной прокуратуре, а затем в Комитете народного контроля СССР, мне пришлось побывать и в Польше, и в Чехословакии, и в Венгрии. Разницы я не видел никакой, из чего сделал вывод о роковой закономерности разложения социального и экономического строя страны определёнными силами.
Если кто считает, что это явление объективное, то я отвечу таким «теоретикам» тем, что всё это явление исключительно субъективного плана. Оно лежит в сфере психологии, морали, нравственности, культивирования в человеке низменных чувств и потребностей, прежде всего, у правящей элиты. Более того, это явление умышленное, направленное и контролируемое, но выдаваемое за экономическую стихию.
Вот только один пример, рассказанный мне очевидцем во время проверки управления торговли Центральной группы войск:
«Во время отпускного автотура по социалистическим странам мы с женой сняли гостиничный номер в гарнизонном отделе на территории главной советской военной базы Центральной группы войск в городке Миловицы, неподалеку от Праги. Начальник отдела военной контрразведки штаба ЦГВ, который забронировал этот номер по просьбе моих друзей из Москвы, рассказал нам вопиющий факт. Дело было так.
Примерно за месяц до нашего приезда в ЧССР на знаменитый чешский курорт Карловы-Вары прибыла на отдых и лечение по приглашению чехословацкого правительства супруга Генерального секретаря ЦК КПСС Виктория Петровна Брежнева. В качестве карманных денег гостеприимные хозяева — Управление делами президента ЧССР Гусака, вручили гостье 30 тысяч крон.
В то время курс кроны к рублю составлял 10 к 1. Но покупательная способность 30 тысяч крон в Чехословакии была значительно выше, чем трех тысяч рублей в СССР...
В один из дней своего отдыха супруга генсека пожелала посетить магазин Военторга в Миловицах для покупки в нем сувениров для всей семьи — детей и внуков.
Она знала, что в этом магазине был специальный «генеральский зал», где можно было купить товары, представлявшие собой дефицит даже в богатых по ассортименту пражских магазинах...
Супруга советского генсека прибыла в Миловицы на правительственной машине «татра», выделенной из спецгаража для обслуживания высокопоставленной дамы. За «татрой» следовал пустой микроавтобус РАФ.
Хоть и не по протоколу, поскольку визит был частный, Викторию Петровну встречал у шлагбаума базы главком Центральной группы войск… Виктория Петровна вышла из машины и… отправилась в «генеральский зал» универмага. Это было помещение метров под двести квадратных, заставленное, завешенное, уложенное всеми видами дефицита… Первая дама начала спокойно обходить прилавки, вешалки, стенды, полки. В почтительном отдалении следовал главком и начальник Военторга.
За Викторией Петровной шли двое солдат. Брежнева показывала пальцем на товары и говорила «Детское белье? Две дюжины… Дамские колготки? Пять дюжин… Мужские рубашки? Три дюжины, размеры 42, 43, 44… Спортивные тренировочные костюмы? Дюжину разных расцветок… Дамские блузки? Три дюжины разных расцветок, фасонов и тканей… Свитера? Две дюжины разных...». И так далее. Солдаты принимали быстро пакуемые продавщицами тюки и относили их в рафик. Затем настал черед хрусталя, цветного стекла и фарфора. Здесь отбиралось не всё подряд, а только самое крупное, яркое и дорогое. И тоже упаковывалось и относилось в РАФ.
Несколько коробок с хрустальными люстрами, из самых дорогих образцов, висевших под потолком, также отправились в микроавтобус. Сотрудник генконсульства СССР в Карловы-Вары, также сопровождавший жену генсека и знавший о сумме, выданной чехами первой леди Советского Союза «на булавки», начал постепенно приходить в ужас.
Он прикинул, что все отобранное Викторией Петровной, давно перевалило за 30 тысяч крон. А супруга генерального все показывала и показывала пальчиком на товары, понравившиеся ей. Продавщицы с восторгом смотрели на высокую особу и с удовольствием помогали ей. Как она узнала, что рафик был заполнен под самую крышу, — неизвестно.
Но именно в этот момент первая леди мило попрощалась с генералом, с начальником Военторга. Улыбки достались даже продавщицам. Потом Виктория Петровная села в «татру» и укатила в Карловы-Вары лечиться и отдыхать дальше… Начальник Военторга подсчитал стоимость взятого Викторией Петровной и выписал счет на огромную сумму, многократно превышавшую «карманные расходы», предусмотренные чехами. С этим счетом главком поехал к советскому послу в Прагу. Тогда им был некий М., друг Брежнева.
Генерал вошел в кабинет посла и в деталях поведал о визите первой леди в Военторг Миловиц, последствиях для военной казны ее пребывания там. Он положил на стол послу счет и спросил, что ему делать в этой ситуации… — Пошли этот счет Леониду Ильичу! — ехидно ответил посол. — Может быть, он напишет резолюцию, чтобы его оплатили...
Вероятно, недостача была покрыта либо уменьшением пищевого и вещевого довольствия солдат и офицеров на много месяцев вперед, либо еще одним способом, который процветал в Группах советских войск в Германии, Польше, Чехословакии и Венгрии.
Некоторые командиры полков сдавали своих солдат… в наем в качестве батраков руководителям сельскохозяйственных и промышленных предприятий «братской» страны пребывания. Заработанные солдатами деньги не оприходовались, а в лучшем случае становились «черной кассой». В худшем они просто присваивались отцами-командирами». (См. Синицин И.Е. Андропов вблизи. М. ИИК «Российская газета». 2004. С.342-344).
Рабы на немецких «галерах»
Подобных картин можно было во множестве рисовать и в ГСВГ. Однажды я отправился в Вюнсдорф, чтобы доложить руководству о своих намерениях возбудить уголовное крупное дело по Центральному военному универмагу в гор. Дрездене. Махровые хищения путем жульничества с уценкой товаров, продажа по заниженным ценам дефицита блатным и т.д. Особо крупный размер ущерба. Но так как дело некому было расследовать, его не возбудили. Пока нас с прокурором не было в городе, торгаши стояли на ушах, начальство было возбуждено, как улей, все готовились к страшным последствиям, скандальным разоблачениям, серьёзным жизненным неприятностям. Ведь каждая собака знала, чьё она мясо съела.
Готовились все.
Ибо раньше уже убедились и в моей прыти, и моём нраве, и моих деловых, профессиональных качествах. Рассказывают, что директриса универмага, подобно белуге, ревела весь день в присутствии коллектива магазина, основной закопёрщик махинаций – зам. начальника политотдела армии, не дожидаясь конца недели, повёз свою жену в Берлинский аэропорт, чтобы отправить её в СССР и уберечь от вызовов на допросы.
В общем, с магазином всё, как говорится, устаканилось. Но тут грянула новая беда. Через два дня ко мне в кабинет зашли Владимир Александрович Еськов, комендант гарнизона, и его зам Володя Стрельников. Они мне сообщили, что на немецкую фабрику в Фрайберге ежедневно приезжают на работу до батальона солдат. Они спрашивали, что им делать.
Ведь все это, очевидно, совершается с санкции больших начальников. Если они сами начнут по своей инициативе компанию против заработков, то им может влететь от своего начальства по первое число.
Тогда я написал письменное поручение комендатуре проверить поступивший в прокуратуру сигнал о работе личного состава на немецких предприятиях. То есть прикрыл ребят от грозящих неприятностей.
Еськов и Стрельников отправились выполнять поручение прокуратуры. К вечеру они доставили в комендатуру целый батальон солдат из Дрезденского полка связи. А на следующий день вместе с сотрудником немецкой окружной полиции отправился в Фрайберг уже я.
На фабрике в бухгалтерии мы получили сведения о заработанных солдатами за несколько дней работы средствах (3 тысячи марок, несколько комплектов мягкой мебели, спальный гарнитур). Директор фабрики заявил, что все взаимоотношения по данному поводу он устанавливал с прапорщиком-адъютантом начальника штаба армии генерала Когута.
Более того, директор посетовал, что в сельхозкооперативе вблизи города, а также на плантациях под Карл-Маркс-Штадтом, подобно гребцам на средневековых галерах, работает гораздо больше солдат, однако их никто не трогает, а у него вот проводят проверку. Дескать, несправедливо всё это.
Пришлось ехать на поля и вместе с комендатурой устанавливать и там такое же безобразие, что и во Фрайберге на мебельной фабрике. Оказалось, что почти весь армейский полк связи (!!!) работал «на галерах». Возвратившись в Дрезден, я приехал к командиру полка в часть.
Комполка был в сильной степени опьянения, взлохмачен, без кителя и без галстука, еле держался на ногах и на вопрос, почему вся часть не занимается боевой подготовкой, а работает на плантациях, смачно выругался матом и адресовал меня к генералу Когуту. Дескать, осточертели уже все давить на командира полка, сил нет, спрашивайте у того, кто посылает людей на заработки. На всякий случай в финчасти я получил справку о том, что ни одной марки, ни одного пфенинга в кассу из заработанных солдатами денег не поступило, и отправился в прокуратуру.
В прокуратуре меня вызвал к себе прокурор армии полковник юстиции Терёхин. Он был очень расстроенным, метался по кабинету, на рубашке тоже на было галстука, глаза выдавали неподдельный испуг, на лбу виднелась испарина. Он спросил, почему это я «копаю» под члена военного совета – начальника штаба армии генерала Когута, что он мне плохого сделал. Я ответил, что с Когутом не знаком и век бы не хотел иметь такого знакомства, никаких личных отношений у меня с ним нет, а то, что на него надо возбуждать уголовное дело о злоупотреблении им своим служебным положением, так это вне всякого сомнения.
Я заверил Терёхина, что только вот отдышусь от дальней дороги, и сразу напишу на его имя докладную записку о выявленных нарушениях закона, суммах, присвоенных денег, количестве солдат-рабов, замеченных и задержанных на немецкой фабрике и в полях, пообещал представить проект постановления о возбуждении уголовного дела, которое сам и приму к своему производству.
Я действительно такую докладную записку с проектом написал и предложил внести представление на имя командующего армией с требованием возмещения ущерба, причинённого присвоением заработанных солдатами денег и возврата полученной на фабрике мебели.
Как мне потом стало известно, Терёхин такого представления не внёс, уголовного дела не возбудил, ущерб Когутом возмещён не был и вскоре тот убыл в Советский Союз по замене. Его адъютант-прапорщик провожал Когута в аэропорту Щёнефельд, где полностью «под завязку» загрузил транспортный самолёт АН-12 мебелью, вещами и другим барахлом, которые Когут вывез из оккупированной им Германии.
На мой недоуменный вопрос Терёхину, как же он спокойно дал уехать этому барыге, Терёхин рассудительно ответил: «А как дали уехать из Германии с вагоном отнятого у немцев имущества маршалу победы Жукову? Его даже сколько-нибудь не пожурили за это. Это традиция любых оккупационных войск. Трофеи для генералов – это стимул в службе. Слабо, видать, Вы учили историю войн и военного искусства. Так что не пытайтесь, Владимир Иванович, разрушить традиции в нашей армии, которые берут начало еще с сорок пятого года». Вот такая диспозиция…
Смерь генсека.
10 ноября 1982 года умер покровитель всех побед коррупции и нравственного загнивания советского общества «дорогой» Леонид Ильич Брежнев. Мне было поручено организовывать траурный митинг в конференцзале военной прокуратуры, принимать соболезнования от сотрудников правоохранительных органов Дрездена, в связи со смертью заниматься другой партийно-политической работой по указанию политотдела. К власти пришёл Андропов. Ему требовались свежие силы в Москве, надёжные люди и большие профессионалы.
В считанные дни, считавшийся самым суровым и решительным прокурором Б.С. Попов был переведён в Москву на должность заместителя главного военного прокурора. Первый заместитель Главного генерал В.Г. Новиков через некоторое время будет назначен начальником Главного следственного управления МВД СССР и Попов станет первым замом Главного военного прокурора СССР А.Г.Горного, получит звание генерал-лейтенанта юстиции.
На место Попова в Вюнсдорф из Алма-Аты приехал генерал-майор юстиции Семён Дмитриевич Малюгин. Одновременно его первый зам. Гуринович назначен с повышением военным прокурором Среднеазиатского военного округа и уехал в Алма-Ату. Вскоре и он «получит генерала». Вместо него первым заместителем прокурора ГСВГ прислан подполковник юстиции Мельничук Василий Григорьевич, приехавший из Астрахани.
А вторым заместителем Малюгина стал … Терёхин Вячеслав Алексеевич. Почему? Потому что Малюгин решил удружить его место в Дрездене мужу сестры своей жены, то есть свояку — подполковнику юстиции Исонкину В.Г., создав им режим наибольшего благоприятствования, чтобы те тоже создали хороший плацдарм для отдыха большой прокурорской семье в столице округа Саксония — Дрездене.
Первый визит, который Малюгин нанес в Германии, и был визит в город Дрезден. Знакомство со мной произвело на него хорошее впечатление и, мне кажется, он понял, что для укрепления своего авторитета в Вюнсдорфе ему потребуется как раз такой работник, как я. Вскоре в Дрезден поступил приказ о моем назначении помощником военного прокурора ГСВГ – прокурором следственного отдела.
Для меня это было полной неожиданностью, ибо получить в Германии повышение я не рассчитывал. Обычно такие вопросы решаются по окончании срока службы за границей при переводе на новое место и при соответствующей аттестации. Я же для назначения на вышестоящую должность не аттестовывался. Так что вот такое произошло внезапное событие.
Однако уехать в Вюнсдорф по получении приказа мне не удалось. Прокуратура была оголена, работать, передать дела и должность было некому. Пришлось по просьбе подполковника юстиции Исонкина задержаться в Дрездене аж до самого февраля 1993 года. В феврале же мне, наряду с выделением нового кабинета в прокуратуре группы, было присвоено очередное воинское звание подполковник юстиции.
Однажды в один из таких дней ожидания «подкрепления» где-то сразу после новогодних праздников ко мне обратился один из моих соседей по дому, где я жил, начальник телецентра Дрезденского дома офицеров майор Воронцов, который попросил выступить в прямом эфире по кабельному телевидению среди советских граждан.
Предлагалась тема о правилах поведения за границей. Я дал согласие и стал готовиться. Помимо всякой всячины о различных эксцессах с рядовыми советскими гражданами, я подготовил мощный аналитический материал о том, что самый дурной пример поведения демонстрируют за границей отнюдь не эти люди, которых я предварительно назвал.
Я изложил собственную версию об отрицательном влиянии на поведение всей остальной массы военнослужащих и членов их семей высших воинских начальников и представителей политорганов. При этом я назвал массу конкретных случаев незаконных сборов денег в войсках на встречи комиссий, направления солдат на заработки и присвоения денег, заработанных ими, пьянства, холопского заискивания перед вышестоящими начальниками.
Упомянул и случаи с генералом Когутом, центральным магазином и махровым воровством путём искусственных уценок дефицита для высокопоставленных офицеров, их жён и московских гостей. Назывались и конкретные фамилии москвичей и офицеров из штаба группы, данные о которых на тот момент у меня имелись в изобилии.
Утром следующего дня в гарнизоне только и разговоров было, как о моём выступлении по телевидению. Рабочий день у нас начинался в 8 часов. Я приходил всегда минут на 10 раньше. Из дома было ходу пешком минут 30. Я рассчитывал выйти в 20 минут восьмого, однако уже в семь часов мне позвонил Исонкин, который испуганным голосом стал спрашивать у меня, что я вчера вечером натворил и почему его, и меня к 7-30 вызывает начальник политотдела армии генерал Степанюк?
Я, конечно, чувствовал, что в связи с моим выступлением поднимется хай-гай, но перед Исонкиным прикинулся «ванькой-пиджачком». Я ответил, что ничего не натворил, у меня, дескать, есть железное алиби: я выступал по прямому эфиру и меня видели по кабельному телевидению все жители Дрезденского гарнизона.
На это Исонкин резко отпарировал: «Владимир Иванович, сейчас не время для шуток. Срочно собирайтесь и в 7-30 я Вас жду в приемной Степанюка!». Пришлось подчиняться, хотя я уже был вышестоящим по отношению к Исонкину офицером. Исонкин этого, почему-то, не понимал.
Но Степанюк, хотя и был чрезвычайно раздосадован происшедшим, всё-таки обращался со мной более вежливо, чем это случалось ранее, когда он приглашал меня на беседы и по другим делам, да и по другим вопросам. Однако сесть ни мне, ни Исонкину не предложил. Правда, стоял и сам. Начал спокойно.
Но чувствовалось, что он усиленно сдерживает себя от гнева. В конце концов он всё-таки не удержался:
— Товарищ майор, кто Вам разрешил обнародовать ту информацию, которую Вы вчера излагали в прямом эфире? Вы понимаете, что это дело подсудное? Это же секретная информация! Мы её на военном совете рассматривали за закрытыми дверями, у нас секретный протокол по этому поводу. Да Вы понимаете, что Вы разгласили государственную тайну, Вы публично перед всем миром, всей Европой дискредитировали высший руководящий состав армии и группы войск! Вы чёрт знает что несли о наших гостях из Москвы. Вы вообще городили такую ахинею о каких-то там причинах и условиях. Ну какая может быть связь между вещами генерала Когута и преступностью в армии? Вы что, решили повернуть колесо истории вспять? Это в 37-ом году такие оценки давали партийным и военным руководителям органы НКВД. Вы что, забыли, в какое время Вы живете? Какая может быть взаимосвязь между низким уровнем поведения каких-то отщепенцев-спекулянток, которых Вы правильно назвали в выступлении, и центральным магазином штаба армии? Вы что, не в своём уме, товарищ майор?….
После этого вопроса мне всё же удалось прервать длинную тираду Степанюка. Я ответил:
— Насчёт своего или не своего ума и намёков на НКВД, товарищ генерал, я убедительно просил бы Вас следить за речью и не допускать оскорблений младшего по званию офицера. По поводу всего остального считаю оправдываться и читать Вам лекцию по моему любимому предмету «криминология», которую Вы назвали ахинеей, излишним. Моё выступление записано на пленку. Если у Вас возникли какие-либо сомнения в части соблюдения мной законов или этических норм, Вы вправе обратиться к моему непосредственному руководителю – прокурору ГСВГ генерал-майору юстиции Малюгину. Считаю дальнейший разговор в заданном Вами тоне неприемлемым для меня как помощника военного прокурора группы войск. До свидания!
После этого я спокойно повернулся и покинул кабинет Степанюка, который, как потом мне рассказал Исонкин, весь свой гнев и чувство негодования обрушил на него. Бедный Исонкин, ещё и месяца не пробывший на новом месте службы, из-за меня и от внезапности напора Степанюка растерялся, стал оправдываться, делать какие-то заверения.
Однако Степанюк всё больше и больше распоясывался, не чувствуя в подполковнике способности сопротивляться и остановить зарвавшегося сноба. В конечном итоге, показав, кто в доме хозяин и пригрозив Исонкину, что впредь он, Степанюк, не допустит, чтобы прокуратура армии так себя вела, отпустил его.
В этот же день Степанюк снял с должности начальника телецентра майора Воронцова и в 24 часа досрочно откомандировал его вместе с семьёй в СССР по дискредитирующим основаниям. Почти как врага народа. Правда, не уточнив, какого народа. Ведь в стране к этому времени существовало уже два народа: тот, который жил по закону, и тот, который жил по подзаконным актам, в большей части секретным и совершенно секретным. Существовали две правды, две истины, две морали, произрастало двоемыслие, создавались фасады и скрывалось зафасадье. Несчастный Воронцов, ведь в СССР ему тоже будет не скрыться от всевидящего ока партийных соглядатаев и всеслышащих ушей идеологического органа армии и флота.
В прокуратуре, когда Исонкин вернулся, я тоже преподал ему урок, как надо себя вести с такими деятелями как Степанюк, привел пример предшествующего Терёхину прокурора армии — полковника юстиции Танюхина, который никогда не позволял, чтобы с ним командующий и члены военного совета разговаривали стоя, чтобы повышали голос, читали мораль.
Мне кажется, что Исонкин этот урок всё-таки усвоил. Как мне сообщал потом о нём мой хороший друг подполковник юстиции Виктор Васильевич Выстаропский. Более того, нередко Исонкин сам со временем стал допускать грубость и бестактность в отношении своих собеседников, в том числе и генералов.
Дела и должность я передал Выстаропскому В.В., поскольку никого из помощников прокурора армии, кто бы меня заменил, я так и не дождался. Где-то в первых числах февраля 1983 года я вместе с семьёй убыл к новому месту службы в Вюнсдорф.
И опять жульё…
Где-то в начале апреля 1983 года в прокуратуру пришёл председатель комитета народного контроля ГСВГ, он же заместитель начальника политуправления полковник Белошицкий. Он сообщил, что в пограничной комендатуре в Франкфурте на Одере сигнализируют о злоупотреблениях коменданта гарнизона майора Бережного. Белошицкий просил направить оперативную группу для проверки. Однако прокурор группы генерал Малюгин сказал полковнику, что свободных сотрудников нет, а он, Белошицкий, и сам ведь обладает недюжинными возможностями проверить любой сигнал.
На том и порешили. Через несколько дней полковник Белошицкий принёс в прокуратуру акт комиссии народного контроля о проверке Бережного. Из этого документа усматривались факты хищений комендантом государственного имущества в особо крупных размерах и спекуляции товарами, привозимыми из СССР. Помимо акта были представлены все необходимые в таких случаях документы. Мой коллега подполковник юстиции Хамадеев вынес постановление о возбуждении уголовного дела и на первых порах сам принял его к своему производству. По приказанию начальника следственного отдела полковника юстиции Романа Рубеновича Барсегяна я вместе с Хамадеевым и полковником Белошицким выехали в Франкфурт для организации первоначальных следственных действий.
По постановлению Ахата Гатеевича местный военный прокурор майор юстиции Попов и следователь лейтенант Паркин на рабочем месте Бережного, в подсобных помещениях комендатуры и в квартире коменданта в тот же день провели обыски, в ходе которого изъято:
множество стройматериалов, пластика, электроприборов, мебели, запчастей к автомобилю «Волга ГАЗ-24» (свыше 100 наименований, почти на новую машину), металлические листы (экоталь) весом 3 тонны, металлическая сетка (14 рулонов), 4 кафельные плиты, обогревательные приборы производства ГДР, пластиковая кровельная плитка в заводской упаковке, армейские палатки, надувные лодки, термосы, канистры (14 шт.), телефонные аппараты (8 шт.), 40 листов деревоплиты размером 3 на 3 метра, обои и мебельные покрытия в рулонах и листах свыше 100 шт., 32 новых фанерных ящика, подготовленных для упаковки вещей к отправке в СССР, мотороллер, велосипеды, изъятые у советских солдат, около 100 ламп дневного освещения, различные предметы хозяйственного назначения, во много раз превышающие потребности одной семьи. Всего было изъято по ориентировочной цене на 50 тысяч марок ГДР;
Также изъято, спрятанного женой Бережного у знакомого немецкого гражданина:
сотни наименований различного военторговского дефицита (предметы женского туалета, духи, колготки и проч.), 30 штук джинсов производства ФРГ, сервизы, хрустальная посуда, ковровые изделия, сувениры, импортные журналы и каталоги, ткани и другое имущество на 20 тысяч марок;
В тайнике в квартире Бережного обнаружено:
300 бутылок пива чешского и немецкого производства длительного хранения, 60 бутылок дефицитных спиртных напитков, ткани, сотни наименований различной импортной мужской, женской и детской одежды, обуви, несколько электромашинок, несколько дорогостоящих фотоаппаратов, вазы, 800 редких книг, а всего на сумму более 50 тысяч марок;
На квартире у знакомой Бережному немецкой гражданки Ингрид Морзек обнаружено спрятанных для последующей продажи в Германии:
индийские вазы (20 шт.), кувшины, каминные часы, золото (цепочки, кольца, наборы серебряных столовых приборов), 16 электрокаминов, 5 электровентиляторов, несколько лодочных моторов, и множество другого привезённого из СССР имущества, которое являлось предметом спекуляции.
Следствием в первый же день расследования по делу установлено, что ещё в 1980 году помощник коменданта Бережной совместно с женой стал заниматься спекуляцией дефицитными в Германии товарами, которые он в огромных количествах привозил в ГДР. В свою очередь из ГДР он также возил дефицит в СССР, который перепродавал там. Деньги на приобретение товаров в Германии он присваивал путём направления на работы в немецкие предприятия советских солдат. Сделав собственные запасы в Союзе на строительство дома-дачи, ремонт квартиры, он стал обеспечивать дефицитом своих родственников в Киеве и Сумской области.
По показаниям Бережного многие вещи он отбирал у проезжающих через границу водителей «Совтрансавто» и военнослужащих, следующих в поездах «Вюнсдорф-Москва» и «Москва-Вюнсдорф». В 1981 году в нарушение установленного порядка для военнослужащих ГСВГ, запрещавшего приобретение личного автотранспорта, купил новую машину ГАЗ-24, а запчасти на неё отбирал в рембате гарнизона под предлогом отсутствия «правоустанавливающих документов» на их приобретение. Мотороллеры и велосипеды, которые он переправлял в СССР, он отбирал у военнослужащих гарнизона, поскольку им было запрещено приобретение таких транспортных средств.
Что интересно, так это то, что ещё в декабре 1981 года отдел службы войск штаба Группы проводил административное расследование сигналов, поступающих из комендатуры гарнизона о хищениях, совершаемых Бережным, и незаконной покупке автомашины. Факты полностью подтвердились. Врио начальника штаба ГСВГ генерал-майор Грахов Г.А. преступления Бережного скрыл, материалы в прокуратуру не передал, правда, поручил отделу кадров штаба Группы откомандировать капитана Бережного из Германии. Однако Бережной вместо откомандирования в октябре 1982 года был назначен с повышением – военным комендантом гарнизона (подполковничья должность) и вскоре ему было присвоено воинское звание «майор».
«Всех солью …»
В день проведённых у Бережного обысков и после допроса его Хамадеевым мне также удалось побеседовать с ним. Бережной был очень расстроен, но держался нагло и уверенно. Он мне заявил: «Товарищ подполковник, я уже сказал предыдущему прокурору, что если Вы меня арестуете, я «солью» всех, мало не покажется никому!» Я спросил: «Кого Вы имеете в виду, говоря, что сольёте их?». Дальнейший диалог выглядит следующим образом:
Б: Всех солью, кому я помогал перевозить валюту через границу, кому отправлял десятками контейнеры со стройматериалами, кому возил в дипломатах деньги, которые я собирал по немецким предприятиям, где работали наши солдаты. Денег перевёз немеренно, не на одну «Волгу» наберётся, на десяток «Мерседесов» хватит с лихвой, тех, кого я покрывал после задержания на границе немецким или польским погранконтролем, солью всех, если всю эту мелочь, что Вы сегодня нашли в комендатуре и на квартире, Вы повесите на меня. Всех «солью» так и передайте там в штабе Группы!
Я: А с чего Вы решили, что я должен кому-то что-то передавать. Я вот сейчас всё, что Вы мне сказали, запишу в протокол, Вы распишетесь в нём, а потом постепенненько мы начнём выяснять пофамильно всех, названных здесь людей, которым Вы «помогали». И они Вам «помогали», так же?
Б: Не так. Мне в этой жизни никто не помог, всё сам, своими руками, сделал себя сам, как в американских фильмах. Никто мне не помогал, никто!
Я: А как же не передали в прошлом году дело в прокуратуру, то есть скрыли Ваше преступление, разве это не помощь?
Б: Это не помощь, это купля-продажа, я купил – они продали.
Я: Хотите сказать, заплатили взятку в отделе кадров, чтобы Вас не судили?
Б: Точно так. И не только в отделе кадров.
Я: А почему же тогда началось сегодняшнее дело, что, взятка имела временный характер действия?
Б: Нет, просто я отказался помогать одному полковнику политотдельцу, который на границе влип с афганским товаром.
Я: Расскажите поподробнее, пожалуйста.
Б: Где-то в середине февраля мне позвонили из Вюнсдорфа и попросили отмазать полковника Ермакова, контейнер которого задержан на границе с позолоченными дверными ручками. Я знал об этом деле, так как у нас маленький гарнизон и здесь все всё знают, в том числе и о том, что делается на границе. Но помочь этому Ермакову я уже ничем не мог, так как дело получило большую огласку. Кто же знал, что он очень блатной и всё политуправление из-за него стояло на ушах. Я об этом узнал позже, а тогда отказался. Ещё не хватало и мне вместе с ним попасться на заметку к «особистам».
Я: Поточнее, о каком задержании контейнера идёт речь.
Б: Я уже потом узнал, что полковник Ермаков в СССР проживал на служебной квартире в каком-то военном городке, своего жилья не было. Семья находилась в городе, а он то ли брал в Афгане Дворец Амина, то ли наводил порядок там после взятия. Короче говоря, вместе со своей гвардией он собрал все позолоченные дверные ручки с дверей дворца и упаковал их в четыре ящика из под патронов. В хозяйстве пригодятся. А из Афгана ему дали назначение в Германию начальником политотдела в какую-то бригаду. Откуда мне было знать, что у него в политуправлении блат, расшибся бы, а выкупил все материалы на него у немцев. А так ведь что получилось … Чтобы не оставлять вещи в Союзе, он загрузил их в трёхтонный контейнер и вместе со стульями и столами забросил туда и четыре ящика из под патронов. И на границе эти ящики то и «зазвенели». Контейнер вскрыли и ахнули. Несколько сотен дверных ручек. Сначала думали, что золото. Поднялся дикий шум, эксперты тут всякие, протоколы и прочее. Конечно, если бы меня предупредили заранее, я бы всё уладил. У меня везде есть знакомые. А так… Я и не стал заниматься. Вот чем всё это и закончилось….
Да, повествование Бережного было интересным. Мы договорились, что я все, что он мне сказал, запишу в протокол допроса и вечером мы встретимся снова в этом же кабинете комендатуры, чтобы продолжить «беседу». В 16 часов 11 апреля я отпустил его на обед на один час. Сам я на обед не пошёл, а стал писать протокол допроса, записывая в него всё, что мне рассказал Бережной. Конечно, Бережного надо было бы арестовать. Но санкцию о его аресте мог дать только прокурор армии. А штаб армии находился очень далеко. Да и по хозяйственным делам, как правило, после первоначальных следственных действий аресты подозреваемых не практиковались. Ведь надо было проводить еще финансово-хозяйственную ревизию, проверку показаний и т.д.
К 17 часам я дал прочитать протокол Хамадееву и предложил ему принять участие в послеобеденном продолжении допроса Бережного. Однако, прочитав документ, как мне показалось, Хамадеев немножко «труханул». Он вообще был человеком очень осторожным, на рожон никогда не лез, особенно если дело касалось больших начальников. Он предложил мне показать протокол допроса Малюгину и, если последует санкция на «высвечивание» причастных к этому делу лиц, то согласился принять участие в продолжении допроса. Делать нечего – Хамадеев был старшим, Франкфуртский участок был его зоной надзора, а поэтому мне пришлось подчиниться. Подошедший Бережной без проблем подписал протокол, и я со справкой Хамадеева о результатах первоначальных следственных действий и своим протоколом поздно вечером отбыл в Вюнсдорф.
Придя утром 12 апреля на службу и намереваясь о содержании допроса Бережного и справке Хамадеева доложить Малюгину и Барсегяну, я узнал, что ночью в своей квартире на чердаке дома Бережной покончил жизнь самоубийством, повесившись на электрическом проводе. Барсегян и Терёхин ещё утром уехали в Франкфурт разбираться, Малюгина срочно вызвал Главком Группы. Докладывать о полученной мною информации было некому, а когда все через сутки собрались в прокуратуре, то она уже потеряла свою актуальность, ибо, кроме барыги Ермакова, Бережной не назвал ни фамилий, ни дат, когда происходили названные им события. Все эти тайны Вюнсдорфского двора он унёс с собою в могилу.
Дальнейшие события по данному делу мне не известны, так как им занимался Ахат Гатеевич или даже прокурор Франкфуртского прокурорско-следственного участка Попов. Данная прокуратура в мою зону надзора не входила, а поэтому ситуация со временем забылась, хотя она представляет собой достаточно суровый урок криминологии, то есть науки о причинах преступности и разложения нравов
Кладезь сведений
Был у меня хороший товарищ в аппарате главкома ГСВГ. Это Витя Красовский, мой однокашник по академии. Он занимал должность юрисконсульта и всячески меня поддерживал, поставляя мне ту или иную нужную мне информацию о делах в штабе группы и о тех или иных должностных лицах этого штаба. В этом вопросе он был знаток своего дела. Однажды, когда я зашёл к нему в кабинет, он показал мне сой толстый кондуит — рабочую тетрадь. В ней почти на пятидесяти страницах были указаны фамилии самых-самых «блатных» офицеров, их жён, детей, служивших и работавших в ГСВГ, чьи родственники занимали в Министерстве обороны высокие посты от генерал-лейтенанта и выше. Кого там только не было: сыновья, зятья, братья, сватья, сёстры, свояки, друзья: маршалов, генералов, министров, замов, помов и проч., и проч. Тетрадочку эту Витя хранил в своём сейфе, а сейф предусмотрительно опечатывал круглой металлической печатью. Больше в этом сейфе у него ничего ценного не хранилось.
Когда я спросил, зачем ему всё это нужно, Виктор ответил мне, что, во-первых, это нужно для того, чтобы знать, с кем имеешь дело, а во-вторых, чтобы контролировать, не нарушают ли права этих людей «в низах», ведь там ещё не везде доросли до понимания статуса неприкосновенности «родни великих». Более того, по словам Красовского, в народе процветает зависть, культивируется недоброжелательность, вражда, даже ненависть к людям из высших слоёв нашего общества. Вот от всего этого их и надо ограждать.
Когда его инструктировали при назначении в юридическую службу, то так и сказали, что в первую очередь именно в этом и заключалась основная функция юридической службы Главкомата ГСВГ. Чтобы проверить законность правового акта, для этого есть прокурор. Если что случается, есть следователи. Пусть «грязью всякой и говном» занимаются они. А вот тихий быт «своим людям» юридически обеспечивать должны свои же. Вот для этого и создана юридическая служба Главкомата ГСВГ. У неё задача гораздо важнее, ответственнее и серьёзнее, чем у какого-то там прокурора и следователя.
Создать спокойные условия работы папе или тестю там в Москве, чтобы они не переживали за своих чад, чтобы эти чада вовремя получили нужное довольствие, воинские звания, повышения по службе, чтобы, не дай Бог, их не переутомили нарядами или иной службой, всё это должна была проверять юрслужба Главкомата. А когда я спросил у Вити, кто ему это поручил или он по собственной инициативе решил заняться такой благотворительной правовой миссией, он ответил, что я ещё не «дошёл в своём политическом развитии до такой степени посвящения в высший разум», при которой подобные вопросы не задают.
Князь Дадиан и Ко
Моя активная деятельность в области надзора за исполнением законности в деятельности высших должностных лиц ГСВГ им крайне не нравилась, вызывала тихую злобу и чувство ненависти к прокуратуре. Особенно военным властям ГСВГ не нравилась наша тотальная, организованная по всей Германии работа с привлечением всех прокуратур армий и прокурорско-следственных участков на борьбу с направлением огромных масс советских солдат на заработки на немецкие предприятия. Один раз ко мне даже приходил в кабинет, хотя мог вызвать меня сам к себе, один из высокопоставленных должностных лиц из политуправления ГСВГ (фамилию его я даже не запоминал и не записывал). Якобы зашёл между прочим по пути от Малюгина, поближе познакомиться, как он выразился, с «основным общенадзорником ГСВГ».
Но разговор его свидетельствовал о том, что зашёл он не между прочим, не для знакомства, а исключительно целенаправленно. Речь как раз шла о «моём злобствовании» по поводу заработков. Дескать, я не понимаю политического момента. Дескать, дружественная нам страна находится на подъёме экономического роста и ей не хватает рабочих рук, а у нас эти руки не всегда находят применение.
Дескать, и для солдат поездки на поля и в производственные трудовые коллективы немецких друзей – это своеобразная разрядка, знакомство с жизнью дружественной нам страны, своеобразная экскурсия. Дескать, эту проблему понимают и знают и в ЦК КПСС, и в Минобороны СССР, не даром ведь заработки не запрещаются, как таковые, а только требуется во всех циркулярах перечисление денег в доход бюджета.
Однако, когда я ненароком сослался на новые веяния в политике, исходящие от требований нового генерального секретаря ЦК Юрия Владимировича Андропова на усиление государственной дисциплины, особенно, в вопросах социалистической собственности и соблюдения правил советской морали, генерал замолк и тут же ретировался. А демагогией такой я был сыт и без него.
Не забота о моральном состоянии солдат, изнывающих от безделья в серых казармах, двигала любителями направлять их на заработки. Не волнения по поводу трудовых ресурсов развивающейся экономики ГДР обуревали их. Основным мотивом всех этих дел была нажива. Нажива, нажива и ещё раз нажива. А всё остальное было прикрытием. Так сказать, всё, что пытался внушить мне генерал, это типичное «подведение марксистского базиса под жилетку». Политработники в этой демагогии были непревзойдёнными мастерами.
А потому и состояние в этом вопросе было аховым! Куда бывало ни кинь по горестной земле ГСВГ, везде перед взором появлялись картины полей, цехов, дворов, подсобок, свалок, строек. А там – солдаты, солдаты, солдаты. А в ведомостях работодателей — заработки, заработки, заработки. Солдаты превращались в рабов, галерных вёсельщиков, аграриев, мебельщиков, асфальтоукладчиков, мусорщиков, носильщиков, в трактора, в бульдозеры, в ломовых лошадей. И только один раз с лёгкой руки начальника политотдела потсдамской танковой дивизии они были превращены в американских индейцев. Но в любом случае это были многотысячные исполнители воли «поди туда, принеси то, знаю что!»
Исполнители воли, не знающей ни удержу, ни совести, ни нравственных и правовых границ. Солдаты ГСВГ на заработках. Солдаты страны-победительницы в кровавой войне. Эх, не было уже в то время Николая Алексеевича Некрасова, чтобы написать с них своих бурлаков в форме доблестной Советской Армии, которые тянут и тянут нескончаемые баржи с немецким барахлом для пополнения командирских баулов.
За всё время пребывания в Германии я ни разу не слышал, чтобы кто-то из руководства Группы был наказан за такое безобразие, которое творилось на просторах «первого эшелона». А раз не наказывался Главком и начальник политуправления, значит, их безнаказанность являлась путеводной звездой для командующих армиями, а от тех благодатный свет от купюр распространялся на командиров дивизий и так далее вплоть до помощника коменданта гарнизона капитана Бережного и ниже.
Все грели руки на рабовладении. Капитан Бережной стал майором и, не струсил бы он перед злодейкой судьбой, быть ему киевским или сумским олигархом, полковник Прохватилов получил «генерала» и, надо полагать, если не олигархом, то преуспевающим бизнесменом стал бы, это уж точно. И несть им числа таким осчастливленным полководцам.
А ведь были времена, когда направление солдат на заработки нещадно каралось. Открываю томик «Неизданный Достоевский» и читаю: «Князь Дадиан, командир Эриванского гренадерского полка «за лихоимство и употребление солдат в работы вместо крестьян» лишён чинов, дворянства, выдержан 3 года в каземате и сослан на житие в Вятку. Согласно рассказу очевидца, Николай I во время церемониала марша на Мадатовской площади в Тифлисе вызвал к себе полковника Дадиана и в присутствии генералов, штаб и обер-офицеров лишил его флигель-адъютантского звания» (Издательство «Наука», 1971 года. с.500).
С несколькими «дадианами» мне пришлось пообщаться и в ГСВГ. Не в том плане «дадианами», что их разжаловали за направление солдат на заработки, а в том плане, что они беззастенчиво на глазах высшего командования Группы занимались лихоимством и злоупотреблениями. Первым из них оказался начальник штаба одной из армий генерал Гуськов. Познакомиться с ним пришлось случайно. Однажды, возвращаясь с проверки дивизии, расположенной в городе Шверине, я увидел огромную толпу, напоминающую цыганский табор. С ними было две лошадки, везущие телеги с каким-то скарбом, и один небольшой тракторишко с прицепом, все участники этой толпы были вооружены кто вилами, кто лопатами.
Несмотря на гражданскую одежду, в которую эта толпа была одета, в основном, спортивные треники, я понял, что это вовсе не цыгане, а советские воины. Остановив толпу я потребовал подойти ко мне старшего. Им оказался старший лейтенант, который пояснил, что группа возвращается в общежитие после работы. А в телегах и прицепе трактора они везут часть собранного урожая для председателя сельхозкооператива. В общем, невольно зарулив к «общежитию», а на самом деле обычному сараю, я увидел, что в нём таким вот образом проживало более ста пятидесяти солдат и несколько офицеров, которые генералом Гуськовым были направлены неделю назад на заработки.
Посмотрев по карте и выяснив расположение ближайшей военной комендатуры ГСВГ, я отправился туда и, найдя военного коменданта-подполковника, поставил ему задачу вместе с офицерами комендатуры привезти в комендатуру советских военнослужащих, затем отобрать от каждого объяснительные записки и вызвав командира части, передать ему по списку всех задержанных военнослужащих для транспортировки в подразделения.
В процессе выяснения задачи комендант спросил у меня, а что делать с солдатами из других кооперативов? Оказалось, что в округе было еще с десяток подобных мест дислокации «цыганских таборов» из защитников передовых рубежей. Правда, там было солдат поменьше, но всё равно в районе комендатуры постепенно собралось около 300 человек. Такого я еще никогда за время службы в ГСВГ не встречал. Всем вновь прибывавшим я раздавал листки бумаги и обязывал написать объяснительные записки на имя прокурора ГСВГ по поставленным мною вопросам.
Со временем все объяснительные были собраны. Одновременно в комендатуре появлялись командиры частей или начальники штабов, откуда были задержанные «сельскохозяйственные рабочие». Командирам частей и начальникам штабов я также раздавал листочки бумаги и они тоже писали объяснительные. Оказалось, что ни сами солдаты, ни воинские части, откуда они были откомандированы не получили за свою работу ни одной марки денег. Питание же им обеспечивалось военно-полевыми кухнями воинских частей.
«Андропов умер!!!» …
Распустив всех по частям, на следующий день всем Отделом общего надзора (подполковники юстиции Вася Масло, Володя Степанов и уже не помню третьего), пригласив прокурорского работника ГДР из района расположения кооперативов, мы объехали все бухгалтерии и собрали данные о полученных денежных средствах за работу солдат. Таковых оказалось не очень много и получены они были каким-то прапорщиком по указанию генерала Гуськова, который и договаривался с руководителями кооперативов о заработках. Остальная сумма в довольно больших размерах подлежала начислению в конце месяца и выплатам тому же прапорщику. Да вот мы помешали. В последующем все заработанные деньги по моему требованию были перечислены в бюджет СССР.
А я после выполненных предварительных проверочный действий на утро следующего дня вызвал к себе в кабинет генерала Гуськова. Последний пытался сначала демонстрировать независимость и надменность, однако, когда он ознакомился с подготовленными заранее вопросами к нему, пыл его немножко остыл. Вытирая обильно выступающий пот на лбу, Гуськов очень долго пытался вымучить свои объяснения о допущенном злоупотреблении служебным положением.
Как когда-то в Дрездене у Когута, у него, оказывается, тоже заканчивался срок службы в ГСВГ, и, по всему чувствовалось, он хотел наверстать упущенное солдатскими заработками. Гуськов просидел в кабинете около двух часов, неся всякую чушь о причинах заработков, но только не объясняя их собственной корыстью и лихоимством. Куда только девалась его первоначальная напыщенность и спесь. Сидел притихший и напуганный, как говорится, до мозга костей. И всё силился и силился вымучить из себя ответы на поставленные перед ним вопросы. Было видно, что генерала покинули и воля, и самообладание и он почувствовал «скорые кранты» своей стремительной военной карьере. Такую наглость в обращении с подчинённым личным составом ему бы никто не простил из своего же круга. А там принцип такой: «воруй да не так заметно и понемногу, и бери по чину».
Но тут вдруг в кабинет буквально влетел взволнованный капитан из окружения Гуськова. Он буквально закричал, напугав всех: — «Андропов умер! Андропов умер!» Меня и моих товарищей по Отделу это известие буквально сразило наповал. Гуськов же, немного посидев в прострации, вдруг собрался и, бросив на стол недописанную и неподписанную объяснительную записку, резко встал, взял фуражку и не терпящим никаких пререканий командным голосом произнёс:
-«Всё, господа офицеры (именно «господа), мне некогда тут всякой чепухой с вами заниматься. Нужно организовывать службу войск в связи со смертью генерального секретаря ЦК КПСС!». После этого он развернулся и ушёл из кабинета, резко хлопнув дверью. И только его и видели. Со временем он был назначен начальником одного из главков Минобороны, получил последовательно воинския звания «генерал-лейтенанта» и «генерал-полковника», а потом из горизонта моих наблюдений куда-то пропал. Хотя в вечность, конечно, не канул. Полагаю, что после 1991 года свои предпринимательские задатки он проявил сполна и вожделенные миллионы долларов «заработал», уже не таясь и нравственно не переживая за гнусные поступки.
Со смертью Андропова обстановка в ГСВГ с заработками и корыстными преступлениями ухудшилась. Должностные лица, как с цепи сорвались, стали безбожно воровать, химичить в хозяйственной отчетности, совершать приписки, давать взятки приезжающим комиссиям из Министерства обороны и брать сами при проверках нижестоящих частей. Раньше был хоть какой-то страх, всё-таки фамилия и дела генсека отпугивали не чистых на руку командиров и начальников от дурных мыслей и намерений. Этот страх дополнялся реальными действиями военной прокуратуры, хотя и не такими уж фронтальными, но всё же более-менее эффективными. А сейчас всё входило в своё прежнее русло растащиловки и экономического разврата.
Похоронный марш
Однажды ко мне в кабинет пришёл старший следователь военной прокуратуры 16 армии ВВС майор юстиции Варданян. Вагаршак Нарсесович (мы его звали Алик) от прокуратуры армии курировал военные городки Вюнсдорфа (их было три). То есть фактически он был и прокурор, и следователь в одном лице, если что криминального случалось в военном городке. Исполнял свои обязанности он добросовестно, профессионально и весьма строго. В Вюнсдорфе его побаивались все, ибо спуску он никому не давал.
Вагаршак Нарсесович сообщил, что его знакомый начальник криминальной полиции района Цоссен (немецкий посёлок вблизи от Вюнсдорфа) имеет серьёзные сигналы относительно начальника военно-оркестровой службы ГСВГ полковника Богданчика, который систематически со своим оркестром подрабатывает у немцев на похоронах проживавших после войны в районе эсэсовских военнослужащих, хоронить которых с воинскими почестями местный муниципалитет категорически отказывался. При этом Богданчик даже давал приказания комендантской роте на участие в похоронах и производстве оружейных залпов перед гробом гитлеровцев.
Информация обескураживающая! Я тут же пошел в кабинет полковника юстиции Василия Григорьевича Мельничука, который остался за убывшего в отпуск военного прокурора ГСВГ генерала Малюгина, и доложил ему. Мельничук дал команду организовать внеплановую прокурорскую проверку, в которой вместе со мной принял участие и сам. В ходе проверки полученный сигнал полностью подтвердился. Оказалось, что Богданчик использовал личный состав оркестра штаба ГСВГ и комендантский взвод не только на похоронах эсэсовцев, но и на свадьбах, праздниках, устраиваемых муниципалитетом, и получал за всё это огромные суммы денег.
Прокурором района и немецкой полицией по моему поручению ведомости с росписями Богданчика были изъяты из бухгалтерии муниципалитета, получены также объяснения от должностных лиц, директора кладбища, родственников умерших о дополнительной плате Богданчику за услуги оркестра и комендантского взвода. Мы планировали после тщательного закрепления доказательств вызвать Богданчика в прокуратуру и получить от него письменно объяснение. Однако, когда мы после выполнения всех действий позвонили ему на службу, нам ответили, что Богданчик убыл к новому месту службы в город Новосибирск.
Это сообщение ошеломило нас с Мельничуком. Как убыл, почему, когда? Я срочно отправился в место расположения оркестра и кабинета Богданчика. Оказалось, что о нашей проверке стало известно начальнику штаба Группы генерал-полковнику Свиридову И.В. и он за один-два дня по согласованию с командующим СИБВО срочно организовал замену Богданчика, приказав последнему немедленно побросать домашние вещи в тут же привезённый к его дому пятитонный контейнер, поручить отправку контейнера кому-либо из музыкантов оркестра, а самому немедленно убыть в Новосибирск к новому месту службы. При этом Богданчик на «Волге» Свиридова выехал во Франкфурт-на-Одере, чтобы там сесть на любой проходящий поезд, следующий на Москву.
Получив такие сведения, Мельничук тут же позвонил прокурору гарнизона на участке в Франкфурт-на-Одере майору юстиции Попову и приказал задержать следующего из Вюнсдорфа на легковой машине полковника Богданчика и доставить его в прокуратуру ГСВГ. А контейнер его дать команду задержать до производства в нём обыска. Вскоре испуганный Богданчик, доставленный в военную прокуратуру сопровождающим его майором юстиции Поповым, давал объяснение Мельничуку, размазывая слёзы по физиономии и обильно запивая свою сбивающуюся речь водой. Богданчик пояснил, что ни одной марки из заработанных оркестром денег он не присвоил, что сам никогда бы этой деятельностью он заниматься не стал и что всё, что он получал в муниципалитете и в немецких семьях, он до пфенинга передавал генерал-полковнику Свиридову.
Протокол объяснения Богданчика Мельничук тут же понёс вызвавшему его из-за поднявшегося в штабе ГСВГ шума главкому генералу армии Зайцеву. Мельничук, боясь провокаций, на всякий случай взял с собой и меня. В кабинете главкома уже находились начальник политуправления и начальник штаба ГСВГ генералы Лизичев и Свиридов. Зайцев прочитал протокол и спросил у Свиридова: -«Иван Васильевич, Вы деньги от Богданчика за работу оркестра у немцев получали?»
На этот вопрос Свиридов ответил: -«Это гнусная ложь, это провокация, это прокуратура копает под меня, я сейчас же напишу жалобу Константину Устиновичу Черненко. Это безобразие, я член ЦК партии, какое имеют право копать под меня!?». При этом глаза Свиридова налились кровью, физиономия покраснела, он явно выходил из себя. Но тут его остановил Лизичев: -«Иван Васильевич, никуда ничего писать не надо, Вас никто не обвиняет, мы Вас только спросили, поскольку имеются объяснения Вашего непосредственного подчинённого». Свиридов успокоился.
Затем Зайцев приказал привести к нему Богданчика, который оставался в моём кабинете в прокуратуре. Из приёмной главкома я позвонил в прокуратуру и Богданчик пришел в кабинет главкома. Главком спросил у него, показывая протокол: -«Полковник, это Вы писали?» -«Так точно, товарищ генерал армии, я!» -«Где полученные Вами деньги?» — ещё раз спросил Зайцев. -«Товарищ генерал армии, я их все до единого пфенинга каждый раз отдавал генерал-полковнику Свиридову».
Тут Свиридов подскочил к Богданчику и попытался нанести ему удар по лицу кулаком, сопровождая свои действия грубым матом и криком: -«Сволочь, мразь, поддонок, кто тебя полковником сделал, когда у тебя подполковничья должность, кто тебе направление дал в Новосибирск?». Но поползновения Свиридова нанести удар подчинённому были пресечены Мельничуком. Стоявший рядом Зайцев от внезапности сначала растерялся, а затем гаркнул громоподобным голосом: -«Прекратить! Иван Васильевич, выйдите из кабинета и остыньте у себя!» Свиридов ушёл, продолжая по дороге материться и орать.
Зайцев ещё раз спросил у Богданчика: -«Почему Вы так внезапно уехали к новому месту службы?» -«Товарищ генерал армии, — ответил он, — когда стало известно о том, что полковник Мельничук и подполковник Сергеев ведут проверку о работе оркестра в Цоссене, я доложил генерал-полковнику Свиридову, и тот мне приказал срочно собираться к отъезду в СССР и убираться вон из глаз. А вчера он дал мне билет на поезд и сказал, чтобы я за три часа собрал вещи в контейнер, который отправят без меня. Я выполнил его приказ и утром выехал во Франкфурт, чтобы уехать на попутных поездах».
«Вы свободны!» — скомандовал Богданчику Зайцев. Мельничук мне дал знать, чтобы я ушёл вместе с Богданчиком и ждал его в прокуратуре. Вместе с Богданчиком я покинул кабинет главкома. Мельничук еще с полчаса оставался там. Чуткая душа музыканта трепетала. Богданчик плакал, я его отпаивал водой, просил успокоиться. Наконец, он пришёл в себя: –«Товарищ подполковник, что мне теперь будет?» — спросил он. –«Не я решаю Вашу судьбу, а поэтому даже сам затрудняюсь ответить Вам». Тут в кабинет зашёл вернувшийся от главкома Мельничук. Вот его слова:
-«Значит так, товарищ полковник, никаких доказательств правдивости сказанных вами слов и объяснений об участии в этом деле генерала Свиридова нет и их невозможно будет получить. Вы ведь записи ваших частных бесед не вели. Свидетелей при этом также не было. Свиридов член ЦК партии, и никто не позволит вот так на основании Ваших голословных утверждений вести по его поводу какую-либо проверку. Однако мы учли, что Вы раскаялись и чистосердечно признались нам в том, что всё-таки с Вами произошло и у нас нет оснований Вам не верить. А потому после того, как Вы возместите причинённый государству ущерб в полном размере, мы откажем в возбуждении против Вас уголовного дела, и Вы можете отправиться к своему новому месту службы в Новосибирск»
-«Но где мне взять восемнадцать с лишним тысяч марок, чтобы выплатить их в кассу?»
-«Попросите у Свиридова».
-«Но он же меня убьёт в своей ярости, товарищ полковник».
-«Тогда продавайте вещи, контейнер Ваш мы задержали».
-«Когда я должен принести Вам квитанцию из финчасти?»
-«В течении десяти суток».
Через неделю Богданчик принес в прокуратуру несколько квитанций финчасти штаба ГСВГ, из которых было видно, что все полученные им деньги за работу оркестра на немцев по частям перечислены в доход союзного бюджета. Полевое учреждение Госбанка СССР подтвердило поступление данной суммы на бюджетный счет. После этого Богданчику зачитали постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, и он спокойно отправился служить в Новосибирск.
Свиридов же после этого скандала был откомандирован из ГСВГ, однако ни наказания ему, ни иного какого-либо порицания не было. А служить он отправился на равнозначную должность начальником штаба Одесского военного округа.
Там уже по другим случаям на него всё-таки будет возбуждено уголовное дело, которое, насколько я помню, расследовала группа из Следственного отдела ГВП во главе с главным прокурором-криминалистом ГВП полковником юстиции Мотыченко Л.И. Что это за дело и каковы его результаты, я не знаю. Однако в любом случае, можно почти с уверенностью утверждать, что партия у власти не дала в обиду своего члена ЦК. Это только при царе князь Дадиан был показательно наказан и лишен всех своих почестей и привилегий. В советское же время члены ЦК оставались всегда безнаказанны.
Описанные случаи – лишь небольшой фрагмент из моей большой прокурорской биографии, насыщенной картинами советского быта, который был отнюдь не таким радостным, каким его ныне рисуют наши современники, видя эпоху Путина и Медведева. Что и говорить, сравнения не в пользу нынешней российской элиты. Но и искать идеала в эпохе брежневской тоже не приходится. Не было его там и близко. И, более того, если бы не взятый старт безнравственности, криминала, разложения в ту эпоху, не было бы и нынешних оборонсервисов, приватизаций и преступных антиреформ.
Ваши голоса очень важны и позволяют выявлять действительно полезные материалы, интересные широкому кругу профессионалов. При этом бесполезные или откровенно рекламные тексты будут скрываться от посетителей и поисковых систем (Яндекс, Google и т.п.).
если бы не взятый старт безнравственности, криминала, разложения в ту эпоху
Уважаемый Владимир Иванович, все, что Вы написали — истинная правда. То же самое начиналось и в Союзе. В начале 80-х мне пришлось столкнуться с тем, что командиры студенческих стройотрядов давали «откаты» за денежные работы для студентов. Это был шок. Изнанка оказалось гнилой по сравнению с парадной стороной социализма. Результат — сегодня мы имеем то, что имеем.
Читаем Макиавелли: империи гибнут тогда, когда те, кто их строил умирают и на их место приходят те, кому они достались без труда. Когда прежние законы и порядки становятся не обязательными для «патрициев». Ничего нового! И Россия развалится и то, что на ее обломках появится развалится вновь. Диалектика!
Поболее вам надо про то, что знаете писать. Как судьями становятся и как в действительности выглядит их классность. Вот мальчонка прям просится в судьи
Был с детства мальчик просто образцом,
Отличник, в поведении примерный...
Переродился быстро, стал скотом,
И в институте спился совершенно.
Может все-таки после института? И может быть случилась у него какая-то драма… в совещательной комнате
Я не думаю, что нужно грустить о прошлом: вне зависимости от названия строя, капитализм, социализм, кхмеризм, гэбизм, на самый верх, в элиту, проникают самые подлые и глубоко безнравственные люди, просто в силу того, что их черты характера — аморальность, подлость, коварство — это их (конкурентное) эволюционное преимущество в сравнении с порядочными людьми. Действительно — диалектика.
У Вас как-то Ганди и Гитлер оказались равны. Это, полагаете, верно?
Давайте Боливара еще до кучи. Где Боливар, и где его нынешние потомки? :)
Признайтесь, что на счёт повальной подлости элиты — это была неточная гипербола.
Почему же неточная? Во времена Гитлера были и другие политики, которые при нападении на Польшу просто умыли руки. А Ганди, вероятно, просто поднялся в элиту волей восставшего народа.
Махатма Ганди никогда не поддерживал восстаний и вооружённый борьбы. Он поднялся вовсе не волей народа, когда поднялся, только после получил поддержку, потому, что ходил пешком повсюду, говорил на всех языках Индии и призывал к миру.
Ганди не единственный пример. Александр Суворов, Томас Джефферсон — примеров много.
Уважаемый Владимир Иванович! Есть хорошее слово, которое характеризует причину состоявшихся событий -измена.
Изменения готовились целенаправленно, заранее. готовились кадры. Для подготовки грядущих «реформ» в экономике были отправлены на «обучение» в Австрию, Великобританию, Канаду, США выпускники лучшего университета в Москве, которые после обучения возглавили эти «реформы» в разных сферах экономики, даже помогали братским республикам.
Если противнику надо взорвать мост, он пригласит инженера, который его строил. Так дешевле и эффективнее.
Организовали «войну с мозгами» людей. На самом деле человек беззащитен перед таким воздействием. чаще он его не осознает. Для каждого «слоя»,«группы» населения -свои «конфетки» и «кнуты» .
«Занялись» образованием, медициной. пенсиями. армией.
Чтобы граждане не сопротивлялись, им разрешили публично снимать трусы(телевидение) и торговать ими на Красной площади (потом запретили), употреблять наркотики( обеспечили доступ) и т.д.
Для «продвинутой» массы граждан придумали сказку про «рыночную» «экономику» и «правовое» государство.
Кому принадлежат ресурсы ( разного рода- финансовые. материальные, природные), тому принадлежит власть, тот определяет развитие нашей страны. Кому принадлежат ресурсы? Кто ими распоряжается? Кто их присвоил и в чьих интересах? Вряд ли группам в нашей стране, они скорее производят впечатление хорошо оплачиваемых «менеджеров».
Высший пилотаж-«противник» разрушил наше государство нашими руками.
Но и искать идеала в эпохе брежневской тоже не приходится.
Прочитала публикацию с удовольствием и узнала много нового, но описанные в ней события особого удивления у меня уже не вызвали — все меркнет на фоне современной российской «элиты».
Думаю, что ни в одной эпохе мы не найдем идеала, везде «скелеты в шкафах».
Интересно!!! В 1976 в рядах СА, я перед строем отказался выполнять приказ командира взвода.Из устава, я знал, что под трибунал пойдем вместе.
Я был уверен, что громкий скандал, никому не нужен. А вот, окажись в прокуратуре Владимир Иванович, пошли бы оба.Или лицо сходное с ним, по набору моральных качеств. Во жизнь.Не встретился по жизни с порядочным человеком, а считай повезло. И после этого-ЖИЗНЬ ПРЕКРКСНА???
Судя по отзывам и в Китае сплошная гниль должна быть в элите. Где был социалистический Китай в 1980-е? Отношение к ним было в лучшем случае как к детям или младшим братьям. И где они сейчас? Общепризнанно, что это вторая (пока) экономика в мире. А разве у них нет таких поползновений к воровству в элите? Да они об этом всему миру открыто говорят и показывают — расстрелы на стадионах — кто ещё не знает. Это во все времена идет соревнование правоохранителей с ворами. В СССР такое соревнование было проиграно… А действовали бы жестче, то Китай был бы сейчас лишь третьим (следующим после США разумеется). Уверен в этом, так как из грязи и разрухи никто другой не запутил бы в космос первым спутник. Или забыли кто такой Гагарин? Не хватило на союз Владимир-Ивановичей. Согласен, что это упущение царя. Поэкспериментировали с добродушием. Итог печален. Однако, когда ругаете гнилой союз, вспомните о Китае. Наша система была почти совершенной. Единственный минус (он же и плюс) — всё зависит от 1 человека в стране. Даже в статье это прослеживается (время Андропова). А если бы он не умер? А если бы вместо него пришел к власти другой Андропов? Тогда бы союз вошел в нормальное русло. Поэтом у и ностальгия по той системе вполне обоснована. Тогда была ещё надежда. Сейчас нет даже надежды, что у детей и внуков будет всё хорошо. Или кто то знает как изменить нынешнюю криминальную систему в ближайшие 50 лет?
Единственный минус (он же и плюс) — всё зависит от 1 человека в стране. Ну так он и приходит, с непреодолимой регулярностью: Николай II, Горбачев.
↓ Читать полностью ↓
Николай II не в счет. С его уходом возникла новая прогрессивная система, которая вывела Россию в лидеры, расширила границы империи в разы. До Николая II Россия НИКОГДА не была лидером ни в экономике, ни в промышленности, ни в образовании, ни в развитии научно-технического прогресса вцелом. Россия всегда только и делала, что пыталась лишь догнать Европу. Можно говорить про сталинские перегибы, миллионы репрессированных, расстрелы невиновных и прочее. Но сделайте поправку на молодость системы. Становление капитализма тоже не было бескровным. Те же революции, та же гражданская война в Европе (из курсов истории) и Америке (война Севера и Юга). Это детская болезнь любого обновления. Однако, повзрослев, стали очевидными преимущества системы. СССР обошел Европу почти во всем, так как это сейчас делает Китай. Всего то надо было удержать то, что было создано ранее. А вина Горбачева не в том что он развалил систему, а в том, что своевременно не устранил человека, который развалил СССР. Проявил великодушие, пожалел одного, а из-за этого одного пострадали 250 миллионов. Если бы не Ельцин, то к власти пришли бы ГКЧП — ребята достаточно крутые из армии и КГБ, которые пытались придти к власти не ради денег, а для сохранения устоев государства. И был бы у власти царь, который ученый свежим опытом, поправил систему в нужном направлении. Но не случилось, благодаря личностным данным бухого героя. Так что нет регулярности. И в нынешней ситуации об этом даже приходится сожалеть, так как нет даже надежды на перемены. Опять же обратимся за сравнением в Китай. Сейчас уже никто не скулит по студентам, которых влисти в Китае раскатали по площади танками 1989 году. 99% китайцев, глядя на северных соседей прыгают от счастья, что власти в 89 году приняли мудрое решение. И даже мировая общественность не смеет сейчас пикнуть, что Китай тогда был не прав. А мы в решающем моменте потеряли сверхдержаву… Интересно узнать мнение автора статьи о личностях членов ГКЧП. Случалось ли по службе слышать о ком нибудь из них авторитетное мнение. Крышевал ли кто-нибудь из них воров, или это были честные генералы? Что скажете, Владимир Иванович?
И чего Вы детей в Китае не выращиваете!? Вроде там нет проблем… (giggle)
Как бы ни было смешно, много моих знакомых уже отправляют своих детей учиться в Китай. Но самое печальное состоит в том, что по всем учебникам истории в Китае четко прописано, что исконно Китайские северные территории располагаются по всей территории Дальнего Востока до Байкала. Это не шутка. Ельцин в свое время подписал с Китаем акт на передачу нескольских тысяч квадратных километров по Амуру в обмен на то, что Китай не будет поднимать территориальных вопросов в течение 25 лет. Время кончается. Кстати, помните гордость СССР в войне с Китаем в 1969 году на острове Даманский? Когда наши на Китайцах установки ГРАД испытали и остров отбили. Так не подскажете кому принадлежит сейчас политый кровью советских пограничников остров Даманский? Он теперь — китайский!!! Поэтому неважно где мне выращивать детей, а важно то, что с вашими внучками в скором будущем будут развлекаться китайские мальчики. И скажут ли они своим предкам спасибо за то, что они натворили в 90-е?
Вы считаете нашу армию недостаточно боеготовной, чтобы умерить притязания Китая? Напрасно, в армии почти порядок.
Люди предпочитают жить с закрытыми глазами и считать, что их это не касается. Мы себе сделали своими руками маленький островок счастья и спасибо «партии за это». Но «островок» может разрушиться быстро и для большинства внезапно.Как с точки зрения процессов, протекающих в мире, так и внутри страны.
↓ Читать полностью ↓
Зашел по Вашей ссылке. Открылась статья про уголовные дела в «Оборонсервисе». Действительно «порядок»! Чтобы рассуждать про боеготовность, сравните военный бюджет России и Китая. Разница в два раза в пользу Китая. На мой взгляд — аргумент более чем весомый. Кроме того, военная мощь России это лишь наследие СССР 80-х годов. Ничего принципиально нового с тех пор придумать не могли так как денег ни в науку, ни в ВПК никто не вкладывал. Многие наработки были проданы за рубеж разбежавшимися от нищеты учеными. Я 1999 году был в Китае в составе небольшой группы по приглашению коммерческой фирмы. Перед отъездом в Россию нас настойчиво попросили пообщаться с «важными» людми. Общались всего 15 минут. Там без всякой подготовки вежливо попросили нас сливать любую информацию по самолетостроению или любым новым промышленным технологиям. И это было предложение нам — людям далеким от всяких подобных разработок. Что уж говорить про обработку ученых. Я абсолютно уверен, что всё что было важного и секретного наработано в союзе, уже давно куплено и известно за рубежом. Хвастать нам уже нечем. Если просто раскрыть глаза, то видим: в 40 км к Востоку авиазавод «Иркут». В застой собирал МИГи. Чуть не загнулся в 90-е. Хвала директору, поставил задачу выжить, не дал разграбить. Остались цеха и оборудование (старое). Вспомнили про них лет 7 назад. Сейчас опять набрали людей, штампуют потихоньку наработки 30-летней давности. 60 км на Запад: в застой базировался авиаполк, которым командовал известный полковник (впоследствии генерал) Джохар Дудаев. С детства помню — самолеты летали как пчелы возле улья. В 90-е годы я самолетов уже не видел! Малая их доля начала летать только лет 5 назад. На самой авиабазе (видно с трассы М-53) лишь пятая часть казарм жилые. Остальные стоят с битыми стеклами полуразрушенные. 40 км на Запад строили 25 лет новую космическую РЛС вместо старой. Пару лет назад недострой демонстративно взорвали и показали по ТВ. Обобщим: мы нового ничего не создаем, а Китай вкладывает в ВПК в 2 раза больше нашего. Помножте на несколько лет, и получите в итоге ясную картину предстоящих событий.
Как всё запущено. А Вы оборонную стратегию Китая вообще читали? Там есть «развлечения с чужими девочками»? А про условие об «ивовом полисаде» по границе с Китаем Вам что известно?
Про оборонную стратегию — Бисмарк: «Не важны намерения, важен потенциал». Про девочек — вспомните историю ВОВ. Нам много рассказывали про бесчинства фашистов, а с недавних пор открыли данные про деяния наших. В Австрии только фиксированных 2,5 млн изнасилований. Мой дед там воевал. Рассказывал, что такое было. Это же подтвердил дед моего одногруппника. Это не выдумки. По статистике попали девочки от 6 лет до 80-летних старух. Злобствовать меньше стали, только когда подходили к Берлину. Победителей не судят!
Воистину: Самый страшный враг живёт внутри нас…
Согласен про воистину. Действительно враг внутри нас! А всего то надо снять розовые очки, вспомнить свою историю и трезво оценить ситуацию.
Почитал я про ивовый палисад. Сравнил с историей Владивостока в Википедии. Хоть и не палисад, но Китай вполне может обосновать свои территориальные претензии. Про УСЛОВИЕ об «ивовом палисаде» мне ничего не известно. Но даже если я не знаю про существование некоего пограничного условия, то по крайней мере я знаю про пакт Молотова — Риббентропа 1939 года. ПАРАДОКС ГЕГЕЛЯ: ИСТОРИЯ УЧИТ, ЧТО НИЧЕМУ НЕ УЧИТ. Тот, кто не помнит своего прошлого, осуждён на то, чтобы пережить его вновь. Джордж Сантаяма (цитатник «Афоризм», http://www.aphorism.ru/author/a2334.shtml)
Да, было времечко.
Но оно было обычное и не золотое и не застойное. Застойным его назвали после.
И мы, простые граждане там, в этом времени присутствовали, но победило иное измерение, которое изменилось в нынешнее.
Как сейчас помню свою службу 1988-1990 г.г. в ГСВГ-ЗГВ, помню, с одной стороны, как ГДР за одну ночь превратилось в ФРГ с иной валютой, с иными магазинами, банками и пр., а также помню и то, как командиры приказывали подчиненным заставлять солдат стричь ножницами траву, сажать деревья, красить целые дома и возводить памятники за одну ночь перед приездом генерала, помню внезапные тревоги, которые объявлялись перед командирами рот накануне, как задержали прапорщика, убывающего в Союз с контейнером, наполненным 60-тью глушителями для БТР. Как эти самые магазины после привоза новых товаров, закрывались на 2 часа для обслуживания генеральских семей, затем полковничьих, а уже потом и младший офицерский состав допускался до полупустых полок. Вот в это самое время я и познакомился с народным творчеством: Генерал это не звание, а счастье.
А что прапорщики и мл.офицеры? Да просто каждый отпуск гоняли по одной подержанной машине в Союз, благо её можно было купить на два месячных оклада прапорщика.
И оценив увиденное, могу сказать, что большинство в одночасье утратило идею. А нет идеи, прозревает лозунг: спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Вот мы и спасли сами себя, при чутком руководстве, а вернее в его отсутствие.
Все, чем мы сегодня живём — всё сделано нашими руками. Плохо-ли, хорошо-ли, но нам в этом жить.
В последнее время уважаемый Владимир Иванович только и обличает советское время. Будто не было ничего хорошего. Однако я заметил, что ругать самих себя принято только у нас. Полагаю, что уровень развития страны определяется прежде всего развитием науки, образования, культуры, качеством регулирования общественных отношений. Нужно было преобразовать, а не разрушать. Последующее разрушение как бы оправдывается наличием не разрешенных проблем. Какую альтернативу предлагает уважаемый Владимир Иванович? Да никакую. Считаю, что все таки лучше жизнь в скромных условиях и иметь надежду, чем погибнуть и стать обладателем дорогого надгробия. Все имеет свои приоритеты. В брежневские времена можно было все изменить. Сейчас изменить ситуацию проблематично, сейчас бы хоть стабилизировать. Смотрите- основная часть фондов в стране имеет критический износ, наука все, население привязано к табаку, водке, наркотикам, пиву. Достойная зарплата (в среднем) — только в столице. Появляются новые законы о кухаркиных детях- в школе без денег скоро не выучишься. Депрессия на рынке полезных ископаемых может вызвать необратимые последствия. В настоящее время нужно больше позитива и уважения к своей истории, а не тотальное ее осуждение.
Уважаемый Владимир Иванович, полагаю, что столь односторонняя оценка вряд ли правомерна — практически все, чем мы пользуемся в настоящее время, создавалось, в том числе, и, в т.н., «время застоя». А теперь, давайте вспомним, что было создано за последние 25 лет? «Вертикаль власти» и уровень коррупции, от которой все чиновничество, начиная с петровских времен, в гробу от зависти переворачивается, — не в счет.
Очень приятно видеть единомышленников (Николаев А.Ю. и snow). Мы с Вами одной крови! :)
После Германии, когда я работал уже в Главной военной прокуратуре, а затем в Комитете народного контроля СССР, мне пришлось побывать и в Польше, и в Чехословакии, и в Венгрии. Разницы я не видел никакой, из чего сделал вывод о роковой закономерности разложения социального и экономического строя страны определёнными силами. Если кто считает, что это явление объективное, то я отвечу таким «теоретикам» тем, что всё это явление исключительно субъективного плана. Оно лежит в сфере психологии, морали, нравственности, культивирования в человеке низменных чувств и потребностей, прежде всего, у правящей элиты. Более того, это явление умышленное, направленное и контролируемое, но выдаваемое за экономическую стихию. «Почему начальство, скажем, губернаторы и мэры, не стреляют людей – простых обывателей – забавы ради? А почему они не приказывают своим телохранителям похищать хорошеньких простушек, чтобы потом смачно насиловать их в своих покоях? Почему, наконец, они просто не отбирают у обычных сограждан понравившееся им имущество – безделушки там, квартиры, машины? Вот так просто, используя силу госмашины – пришел и отобрал? Вопрос кажется странным и даже диким. Однако он помогает нам выявить весьма и весьма существенное различие в восприятии сложившейся системы власти между западным и типичным постсовковым обывателем. Дело в том, что ответы на него – принципиально разные по ту и по эту сторону бывшего «железного занавеса». Для западного обывателя (после того как он придет в себя от самой постановки вопроса) ответ крайне прост: конечно, пожмет он плечами, все возможно, но ведь есть прокуроры, есть суд, есть шерифы и вообще правоохранительные органы; едва ли начальник будет настолько безумен, что пойдет против всей отлаженной веками правоохранительной системы. Обыватель из постсовка, быть может, и рад бы был ответить так же – но, к сожалению, большинству такой ответ даже не придет в голову. Причина в том, что люди «родом из Страны Советов» просто не выработали привычки воспринимать «правоохранительную систему» отдельно от собственно Власти; для них «менты, прокуроры и судьи» — неотъемлемая часть Системы, причем – подчиненная часть. Поэтому для истинно советского человека предполагать, что взбесившегося губернатора или мэра станет преследовать «честный прокурор», этакий «русский Каттани» — все равно что, наблюдая над сбежавшим от санитаров буйнопомешанным, надеяться, что его левая рука и правая нога вмешаются и не допустят кровопролития. Советские люди еще готовы кое-как поверить, что «правоохранительная система» защитит их от таких же, как они – каких-нибудь ополоумевших аптечных ковбоев юристов или майоров Евсюковых. Но чтобы она сработала против НАЧАЛЬСТВА? Настолько наивных среди советских нет. Советский не воспринимает (совершенно справедливо) российский суд как самостоятельную ветвь власти – а это значит, что он вовсе не считает суд властью. Это просто часть механизма – как же она может идти против власти настоящей, которую мэр или губернатор, собственно, и олицетворяет? Такое мироощущение, думается, совершенно чуждо и непонятно «западникам» — но мои советские читатели, уверен, уже ощутили в нем что-то родное, исконно-посконное, отвечающее чему-то внутри, «впитанному с молоком». (Да-да, друзья мои, это БИОС, он безошибочно указывает на «норму»!) Но тогда, спрашивается, как же отвечает наш советский человек на вопрос, вынесенный в преамбулу? Или у него нет ответа?! Но как же тогда он живет – неужели в постоянном страхе за свою жизнь? Ответ у совка, безусловно, есть. Жить в постоянном страхе, не имея ответа ДАЖЕ на такой простой вопрос, слишком разрушительно для психики. Но ответ действительно совсем не такой, как на Западе. Ответ совка Ни о каком суде, естественно, совок и не вспоминает. Но он твердо знает другое: он знает, что у будто бы всевластного начальника, того же губернатора, есть и свой начальник! Повыше! Начальство «повыше» может быть не здесь, но оно БДИТ! Оно не даст совсем уж беспредельничать! Говоря совсем уж по-простому: совок знает, что над губернатором есть Путин. Он далеко, где-то в Кремле – но он, ЕСЛИ ЧТО, даст УКОРОТ. Это, по большому счету, единственная, но она же и Главная Надежда. В представлении совка (и постсовка) способность (и наклонность) местного начальства к беспределу сдерживается ТОЛЬКО наличием над этим начальством другого, более высокого начальства. Другими словами, советский обыватель издавна уповает не на суд, а на Вертикаль. В этой логике совка вроде бы нетрудно отыскать слабое звено. Типа – ну хорошо, допустим, что злодея, буде он обнаружится среди местной власти, сможет укоротить условный Путин или кто там еще из Центра; но как быть, если злодеем окажется САМ представитель высшей власти? Что тогда?!» «Немногочисленные «западники» упирают на «естественность» демократии с точки зрения природы человека, говорят о том, что она обеспечивает разнообразие, что она гораздо больше «заточена» под потребности конкретного индивида, что политическая жизнь при демократии – это интересно, это вкусно, что с ее помощью человек обретает контроль над важнейшей стороной своей жизнедеятельности… Люди с советской и постсоветской психологией слушают все эти бредни угрюмо и недоверчиво. И возражают, упоминая и про «особый путь», и про «отраву», а самое главное – имея в виду, что «вся эта политика» — что-то бесконечно низменное, животное, и что «жевать» — то есть стараться вникать в особенности политической борьбы и принимать свои собственные ответственные политические решения – глупая, ненужная и непонятная РАБОТА. Основополагающая, ключевая отличительная черта в данном случае – то, каким образом происходит наделение властью: в случае демократии это происходит снизу вверх, от рядовых участников некой общности к руководству. Вообще, для простоты можно выделить всего два типа наделения властью: демократический и оккупационный. В случае первого процесс идет «снизу вверх», в случае второго – сверху вниз, то есть от более высокого начальства, или «центра», к начальству более мелкому. Основной особенностью построенного коммунистами «единственного в мире государства рабочих и крестьян» было то, что демократический способ наделения властью в нем вообще отсутствовал. Отсутствовал в принципе, на всех уровнях, что называется, «как класс». И, соответственно, на всех уровнях, от октябрятской «звездочки» до «выборов» Председателя Президиума Верховного Совета СССР, жестко и неукоснительно соблюдался оккупационный принцип. Любого рода власть в Стране Советов делегировалась только «сверху вниз» и никак иначе. Важно, что примеры оккупационного принципа формирования «руководящих органов» (любых!) окружали будущего «гражданина СССР» именно что с детства, с младших классов школы, если не детского сада. Я не зря упомянул октябрятские «звездочки». Разъясню для молодого поколения – заботливая Советская власть начинала «вовлекать в общественную жизнь» своих юных граждан прямо с первого класса школы: сначала их принимали в «октябрята» (1-4 класс), потом в «пионеры» (5-8 класс), далее в «комсомольцы» (9 класс и до 28 лет). Поначалу – в 20е годы прошлого века – вроде как еще считалось, что «октябрятами», «пионерами» и «комсомольцами» должны быть «избранные» — то есть самые лучшие, самые сознательные и самые беззаветно преданные «делу Ленина и родной Коммунистической партии» (официальная формулировка) юные совграждане. Однако довольно быстро «концепция изменилась», и возобладал противоположный подход – что в соответствующие «детские организации» должны вступать все дети, поголовно. То бишь появление у школьника значка на лацкане или красного галстука на шее быстро стало знаком не избранности, а попросту– лояльности, свидетельством, что данный ребенок такой же, как все, «обычный советский ребенок». Зачем все это было сделано? Что за странная идея – создавать «общественные организации», в которых состоят ВСЕ? Идея проста – контроль. Единообразные «детские организации» пронизывали весь совок «от Москвы до самых до окраин». Дети Страны Советов должны были с самого начала «процесса коммунистического воспитания» учиться голосовать единогласно и по команде, и считать естественным состоять в организации, в которой от них, как от рядовых участников, ровным счетом ничего не зависит.»Цикл статей «Психология совка», http://sapojnik.livejournal.com/
«Итак, с детства советских граждан приучали к «правильному» восприятию того, как может быть устроено управление. Но пионерией и комсомолией дело, понятно, не ограничивалось. На Западе, скажем, реальной «школой демократии» выступают различные самодеятельные и общественные организации «по интересам», многие из которых весьма влиятельны. В тех же школах и ВУЗах есть и органы ученического самоуправления, и «родительские комитеты», действуют и мощные структуры типа Национальной стрелковой ассоциации в США. Посмотрит иной западный школьник на маму, вернувшуюся с бурных дебатов в родительском попечительском совете школы, на старшего брата, сочиняющего «предвыборную программу» для своего выдвижения в Совет студенческого самоуправления, на отца, борющегося за смещение бездарного, на его взгляд, председателя местной ячейки Стрелковой ассоциации – и понимание демократии приходит к такому школьнику как бы даже помимо его воли.
Не то было в СССР. Во-первых, общественных организаций было намного меньше. Во-вторых, были они вовсе не «самодеятельными», а наоборот – изначально находились под плотнейших колпаком «кураторов» из государственной и партийной администрации. Соответственно, никакие «шаги влево, шаги вправо» в советских/российских общественных организациях были просто невозможны, а члены всех этих ДОСААФ, профсоюзов и «учебно-воспитательных комиссий» в ВУЗах делали ровно то же самое, что и во всех прочих организациях совка – то есть единогласно голосовали «за» решения, которые уже до них и без них были написаны в вышестоящих инстанциях. Демократический централизм в действии!»
Цикл статей «Психология совка», http://sapojnik.livejournal.com/
Так что насчет «субъективности явлений» при КПСС, автор в корне неправ.
«Почему начальство, скажем, губернаторы и мэры, не стреляют людей – простых обывателей – забавы ради? А почему они не приказывают своим телохранителям похищать хорошеньких простушек, чтобы потом смачно насиловать их в своих покоях? Почему, наконец, они просто не отбирают у обычных сограждан понравившееся им имущество – безделушки там, квартиры, машины? Вот так просто, используя силу госмашины – пришел и отобрал?" Вопрос кажется странным и даже диким. Очень верно подмечено про дикость вопроса. А почему вопрос нам кажется диким, если мы, воспитанные в СССР, по понятию Игоря Иванова, не привыкли иметь своё мнение, так как за нас всё решалось в вышестоящих инстанциях?
↓ Читать полностью ↓
Вероятно, потому, что совковая система всеми возможными способами насильно вдалбливала в население определенные правила поведения, которые позволяли делать выводы что вышеперечисленные поступки есть плохо. В совдепии не разрешалось убивать, воровать, насиловать и много других нехороших дел. Если кто вспомнит, к каким плохим поступкам призывали советы — подскажите, а то на ум не приходит. Так как эти понятия вдалбливались насильно, с самого рождения, то преступности было слабо сказать — меньше. И вот с этой моралью выращивалось население. И все, как верно заметил, Игорь Иванов, были под контролем — и октябрята, и пионеры, и комсомольцы, и партийные. По принципам четко обозначенной морали поведения в своих классах комсомольцы выбирали по соответствующему поведению и способностым лидера-представителя комсорга. Соответственно, партийные — парторга. Эти лидеры ходили строем на собрания-совещания. Был у них там такой лидерский тусняк. Исходя из принципов совдеповской морали и ораторских способностей, по каждой школе, институту или заводу из лидерской тусовки назначался свой главный. В условиях, когда даже развод в семье считался признаком неблагонадежности, разумеется выбранные главные должны были быть кристально чистыми. И вот из таких главных уже назначались первые-вторые секретари райкомов-горкомов комсомола и партии. Тут они попадали под колпак системы. Наиболее толковые, способные агитировать массы народа в духе совковой морали двигались в областные центры и в столицу. Яркий пример такого продвижения был показан недавно в многосерийном фильме «Фурцева». И вот самые-самые положительные с точки зрения советсткой морали, с отточенными организаторскими способностями попадают в ЦК КПСС. Из состава членов ЦК КПСС выбирался царь (президент, генсек). И вот этот царь в силу насажденных системой моральных принципов определял дальнейшую стратегию развития партии и государства со всеми её ветвями власти. Царь был наделен неограниченной властью. При этом действительно, простому народу не было выбора как сейчас. Например, сейчас, хочешь работай, не хочешь не работай. В совке так нельзя — статья за тунеядство была. Все было подчинено определенной цели, поэтому мораль воспитывала население в духе достижения этой цели. Поставили цель доказать всему миру что советские люди самы умные, и в шахматах чемпионы сплошь из СССР. Да и в целом в спорте были лучшими (как опять не вспомнить про современный Китай!). Поставили цель создать лучшие самолеты — так до сих пор на них летают и продают. Поставили цель создать космические ракеты — полетели первыми. И как при таком воспитании могла придти мысль мысль, что секретарь горкома при всей строгости отбора может пострелять людей? Вот поэтому совкам эта мысль и кажется дикой — потому как такое исключено.
В СССР организаций было меньше? Секций и кружков было едва ли не больше, чем желающих в них ходить! На школьников даже оказывалось определенное давление, если он не был никуда пристроен. В Америке стрелковый клуб — у нас секция пулевой стрельбы. Любишь бегать — бегай, нравится хоккей — бесплатно, только ходи. Занимайся чем хочешь, лишь бы с пользой. То же самое с работой. Её было валом и на любой вкус. Можно было смело ехать в любой город и знать, что устроишься там на работу и будешь жить не хуже других. А вот интересно разобраться в причине возникновения мысли, что мэр или губер может пострелять людей. Такого можно ожидать от непредсказуемого, случайного человека. Как разобрались выше — в совке случайные не могли попасть в систему власти, так как был тотальный контроль с низу до верху. А как сейчас. Вспомним выборы Путина. Ельцин сказал — вот знаю человека, он порядок наведет. По привычке — альфа-самец сказал, значит правильно. Может и просто тупо подтусовали результаты выборов. Но человек пришел во власть не из системы, а со стороны. Выборы Медведева — аналогично. Никто его не знал, система его не фильтровала. Просто выхватили знакомого и вытянули наверх. Чего от них ждать на самом деле? Вот и рождаются дикие мысли. Да не на пустом месте. В начале этого месяца судили экс-мэра г. Усолья-Сибирского. 10 лет дали за как заказчику убийства. Заплатил криминалу за убийство конкурента на выборах + превышение полномочий, когда приказал электроэнергию отключить на местной свиноферме (к слову директор бывший секретарь горкома). По статистике сейчас раскрывается лишь небольшой процент преступлений. Вот и посчитайте, сколько мэров и губеров сидят в крови и пользуют хорошеньких простушек. А сам процесс выбора мэра? Сейчас всем понятно, что простому честному человеку во власть не пройти. Идут только с деньгами, чтобы раскрутить PR, хитрые, лживые и изворотливые. И чем выше уровень выборности, тем хитрее, лживее и беспринципнее претендент только может добиться результата. Просчитайте, кто должен быть на самом верху? Просто идеал, образец, эталон! Сами понимаете чего…
Допустим, избрали подонка, как его обратно скинуть? Каков механизм общественного контроля за «слугами народа»?
«В советское время таких руководителей не было» — в Узбекистане была одна царица, личную тюрьму имела.
Подонка обратно скинуть невозможно — ни в советское время, ни, тем более, сейчас, если, конечно, всерьез не рассматривать вооруженный переворот.
Вопрос только в том, какие шансы у подонка придти к власти были при советах, и какие сейчас. Делайте ставки, господа, опираясь на мораль, насаживаемую государством в людские головы. А на счет тюрем — зачем царю личная тюрьма, если у него неограниченная власть? У царя и общественная тюрьма — личная. Так что байка про царицу с личной тюрьмой весьма сомнительна, если, конечно, не имеются ввиду тюрьмы при каждой ОПГ.
Никсона, однако, скинули. Та дамочка была царицей среднего партийного уровня, тюрьма у неё была в подвале личной виллы.
Никсона скинули американцы. Эти кого угодно могут скинуть, даже Пу, если захотят. У русских, к сожалению, так не получается. Вернее у России свой путь — путь государственных переворотов на протяжении уже многих веков. По другому они не умеют. Что по тюрьмам, так если при советах одну такую нашли на всю страну, то сейчас в каждом городе — несколько, судя по криминальной хронике.
«Почему начальство, скажем, губернаторы и мэры, не стреляют людей – простых обывателей – забавы ради?» — обсуждается ответ на такой вопрос западных людей vs советских/российских, вы cпорите — «подонка обратно скинуть невозможно» — о чем спор-то?
Вчера в университете все обсуждали статью Александра Минкина «Людоеды повзрослели», про то, как культура мешает делать деньги. Московский Комсомолец № 26102 от 26 ноября 2012 г. Очень даже в тему данной публикации.
Минкину все же честнее было взять у повзрослевших второе интервью.
«Потеря гуманитарной культуры — это национальная катастрофа. Отказаться от гуманитарной культуры — означает отдать власть быдлу и гопоте.»
По-моему, власть всегда им и принадлежала.
Не важно, какого цвета кошка, главное, чтобы она ловила мышей!
А не нужно оно -второе интервью, третье интервью. Сущность понятна- все должно быть экономически обосновано, то что не обосновано должно погибнуть. Вот ваша программа, любезный либерал «Игорь Иванов», вас легион: защитников меньшинств, анархистов-индивидуалистов, фемен и др.
Образованные люди ходят на митинги, могут претендовать на что-то большее, на изменение обстановки, они ваши враги, поэтому нужно ограничить доступ к образованию, сделать имущественный ценз. Телевизор (дебилизатор) должен оглуплять людей. Дураками легче управлять. Поэтому вам и противит прежнее время, когда нельзя вам было заниматься вашим делом.
Вот ваша программа, любезный либерал «Игорь Иванов» Моя, в смысле мною написанные тезисы? Вы не звездун, часом?
Уважаемый Владимир Иванович, поддерживаю.
Ваши голоса очень важны и позволяют выявлять действительно полезные материалы, интересные широкому кругу профессионалов. При этом бесполезные или откровенно рекламные тексты будут скрываться от посетителей и поисковых систем (Яндекс, Google и т.п.).
Дорого, но зато качественно. Все встречи и консультации, в т.ч. дистанционные только по предварительной записи.
В рамках адвокатской деятельности оказываю юр. помощь по многим вопросам.
Являюсь также профессиональным медиатором.
Защита по сложным уголовным экономическим делам.
Борьба с фальсификациями и незаконными методами расследования. Опыт, надёжность, добросовестность!
● Арбитраж. Банкротство. ФАС. Юридическое сопровождение вашего бизнеса.
● Юрист по ВЭД. Споры с ФТС. Международное право.

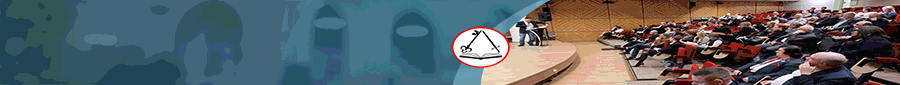

Уважаемый Владимир Иванович, поражаюсь Вашим усердием при работе над публикацией, очень познавательная статья, расширяет кругозор, ждем продолжения!