
Существующая парадигма в уголовном процессе сильнейшим образом и закономерно воздействует на научное сообщество. Но все же одни процессуалисты еще остались на традиционных позициях, другие уже ушли вперед или в сторону от общепринятых взглядов. Тогда есть резон понять, что есть «общепринятые взгляды» на категорию «функция уголовного судопроизводства».
С одной стороны, по С.И. Ожегову «функция – это есть полномочия»[1]. Позднее С.И. Ожегов определяет функцию как обязанность, круг деятельности[2]. С другой стороны, общепринято понимать, что функция права – это: 1) социальное назначение права[3]; 2) направление правового воздействия на общественные отношения[4]; 3) то и другое вместе взятое.
Последний вариант, по сути, является «парадигмальным» для уголовного процесса. Так, В.В. Лазарев утверждает: «Понятие «функции права» должно охватывать одновременно как назначение права, так и вытекающие из этого направления его воздействия на общественные отношения. Раскрывая содержание какой-либо функции права, необходимо постоянно иметь в виду связь назначения права с направлениями его воздействия и наоборот. Собственно функция права – это реализация его социального назначения»[5]. Но и без этого утверждения, например, Л.Б. Зусь выделяет и рассматривает три вида социальных функций уголовного процесса: 1) общесоциальную; 2) социально-политическую; 3) специально-юридическую[6].
В.В. Лазарев отмечал «Функция – это «свечение» сущности права в общественных отношениях, но в то же время, будучи проявлением имманентных свойств сущности, функция не сводится к ним и не является простой их «проекцией»[7].
Так или иначе, в теории уголовно-процессуального права можно видеть, что доминирует экстраполяция (перенос) общеправовых представлений о функциях на отраслевой уровень. Никто не мог и не хотел выйти за границы общепринятой доктрины, что уголовно-процессуальные функции – это определенные направления деятельности участников уголовного процесса, осуществляемые в целях решения задач уголовного судопроизводства[8].
Именно в связи с этими направлениями и проводятся классификационные исследования в теории уголовного процесса. При этом наблюдается два подхода – «минималистский» и «максималистский». Одни исповедуют взгляд: нужно говорить только об «основных» функциях, а «дополнительные» (факультативные) – в порядке примечания.
В свое время «минималист» Стефан Павлов рассматривал три функции: а) обвинительную; б) защиты; в) процессуального руководства и разрешения вопросов, возникающих в соответствующих стадиях уголовного процесса[9].
По мнению «максималистов», эти три процессуальные функции лишь основные, первостепенные, но ими не исчерпывается все функциональное многообразие уголовно-процессуальной деятельности. Поэтому наряду с основными функциями действуют и другие процессуальные функции[10].
Скажем, В.С. Зеленецкий предлагал делить процессуальные функции на общие и частные, то есть на функции, реализующиеся на всем протяжении уголовного процесса, и функции, осуществляющиеся в одной или нескольких стадиях процесса. Вероятно, автор здесь допустил смешение понятий «задачи» и «функции»[11].
«Максималисты» расходятся как в названиях, так и в количестве функций. В частности, к трем основным функциям добавляется: 1) расследование дела; 2) поддержание гражданского иска; 3) защиту от гражданского иска[12].
Существуют варианты, когда к этим «дополнительным» функциям причисляется еще целый ряд «побочных» (для удобства – продолжим нумерацию): 4) прокурорский надзор; 5) установление, проверка данных относительно преступлений; 6) судебное рассмотрение и разрешение уголовного дела; 7) действия свидетелей, экспертов и других лиц, так или иначе содействующих осуществлению следственных и судебных действий; 8) надзор вышестоящих судебных органов за судебной деятельностью нижестоящих судов[13].
целый ряд «побочных» (для удобства – продолжим нумерацию): 4) прокурорский надзор; 5) установление, проверка данных относительно преступлений; 6) судебное рассмотрение и разрешение уголовного дела; 7) действия свидетелей, экспертов и других лиц, так или иначе содействующих осуществлению следственных и судебных действий; 8) надзор вышестоящих судебных органов за судебной деятельностью нижестоящих судов[13].
Наконец, были предложения, чтобы к числу процессуальных функций отнести: 9) предупреждение преступлений и искоренение их причин; 10) привлечение общественности к борьбе с преступностью; 11) воспитание граждан в духе неуклонного исполнения законов и уважения правил социалистического общежития; 12) обеспечение возмещения причиненного преступлением материального ущерба[14].
Последующие классификационные варианты отличались только редакцией названий процессуальных функций[15]. При этом разворачиваются «внутриклассификационные» споры по поводу, например, того, что представляет собой та или иная «вспомогательная функция»[16]. Как правило, та или иная классификация процессуальных функций не имеет оснований того, что же конкретно положено в основу такой классификации. Что же касается вульгарных попыток того, что каждому участнику будет «выделена» только ему свойственная функция, то количество процессуальных функций будет стремиться к количеству участников уголовного процесса. Это положение подтверждается, если проанализировать взгляды ученых, которые объясняют наличие уголовно-процессуальных функций через роль конкретных участников уголовного процесса.
Именно так, например, В.Н. Шпилев обосновывал необходимость количественного увеличения уголовно-процессуальных функций: «Поскольку теория трех основных процессуальных функций не в полной мере отражает содержание уголовно-процессуальной деятельности, где каждый участник процесса выполняет определенную функцию и действует в определенном направлении, предусмотренном законом, предприняты попытки сконструировать более широкую систему процессуальных функций»[17].
На наш взгляд, речь должна идти о необходимых и достаточных функциях, условно говоря, «мирового» модельного уголовно-процессуального кодекса. Можно сформулировать проблему иначе: возникла необходимость подлинно научной, вненациональной стандартизации модели «базового», универсального судопроизводства, такой модели, которая бы в наименьшей степени подвержена национально-идеологическим влияниям.
Вполне актуальна научная гипотеза: тип уголовного процесса детерминируется набором и соотношением функций его участников (субъектов). В свою очередь, цели-результаты уголовного процесса детерминируют количество и содержание самих функций.
Трудно найти момент в истории цивилизации, когда возник уголовный процесс. То же самое можно сказать и о функциях. Более того, невозможно сказать, какая функция уголовного судопроизводства появилась первой, а какая – второй. Они появлялись разом: функция доказывания и функция принятия процессуального решения. Как изображение на фотографии при проявке. Не сверху вниз, не от центра к периферии – а постепенно, но одновременно, хотя и с разной скоростью проявления. Но скрытое изображение всей фотографии уже было заложено еще до проявки.
Нарождаясь, эти две названные функции вписываются в пространственно-временную систему общества, как его необходимая часть или как его продукт, живущий относительно самостоятельной жизнью. Функция доказывания и функция принятия решений рождают органы, но не наоборот – орган не рождает функцию. Представляется, что в той мере, в какой общество воздействует на функции, приспосабливая к себе, в такой же мере функции приспосабливаются к обществу.
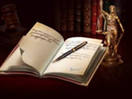 С точки зрения функционального анализа, обе функции уголовного процесса должны быть настроены на достижение цели, на получение определенного результата. Такая настройка – итог адаптации, усвоения и закрепления внутренних («собственных», благоприобретенных) и внешних ценностей общества. Это – необходимый аспект социализации уголовного судопроизводства и предпосылка его нормального функционирования. Функции появились, укрепились, возмужали и выстояли в сражении с внешними факторами благодаря их повторяемости и ритмичности. Функции накапливают и сохраняют память о цели функционирования.
С точки зрения функционального анализа, обе функции уголовного процесса должны быть настроены на достижение цели, на получение определенного результата. Такая настройка – итог адаптации, усвоения и закрепления внутренних («собственных», благоприобретенных) и внешних ценностей общества. Это – необходимый аспект социализации уголовного судопроизводства и предпосылка его нормального функционирования. Функции появились, укрепились, возмужали и выстояли в сражении с внешними факторами благодаря их повторяемости и ритмичности. Функции накапливают и сохраняют память о цели функционирования.
Развивая учение о процессуальных функциях, В.Л. Случевский проблему функций увязывал не только с разделением труда между сторонами уголовного процесса, но и стоящими перед правосудием целями[18].
Тогда закономерен вопрос: что является целью уголовного процесса?
И.Я. Фойницкий без особых комментариев прямо утверждал: «Роль суда сводится к разрешению уголовного иска, предъявленного обвинителем как стороной процесса и оспариваемого подсудимым (его представителем) как участником другой, противоположной стороны уголовного процесса»[19].
Здесь, как видим, И.Я. Фойницкий достаточно четко выделяет три процессуальных функции: 1) обвинение, именуемое уголовным иском; 2) защита от обвинения (защита от уголовного иска) и 3) разрешение уголовного иска по существу.
О.Я. Мотовиловкер утверждал, что именно в уголовном процессе, который не мыслим без обвинения, защиты и разрешения дела существует специфическая проблема размежевания их и разграничения потому, что до сих пор не удается решить вопросов: что такое уголовно-процессуальная функция; сколько их; кто их осуществляет[20].
С.А. Голунский считал, что концепция процессуальных функций не совместима с закрепленными в основах уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик 1958 г. принципами всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств уголовного дела[21].
А.М. Ларин полагал, что «если исходить только из наличия процессуально-правовой цели, то можно насчитать столько функций, сколько существует процессуальных актов». Поэтому А.М. Ларин делает вывод: «Функция – это не отдельное действие, а деятельность, т.е. совокупность действий и решений, объединенных единством цели»[22].
В действующем УПК РФ (главы 5–8) можно видеть «функциональные» стороны в зависимости от их интересов на три группы:1) суд; 2) сторону обвинения (прокурор, следователь, начальник следственного отдела, дознаватель, частный обвинитель, потерпевший, его законный представитель и представитель, гражданский истец и его представитель);3) сторону защиты (подозреваемый, обвиняемый, их законные представители, защитник, гражданский ответчик, его законные представитель и представитель), а также иных участников уголовного судопроизводства
Иные участники не должны иметь особых «функциональных» интересов (свидетель, эксперт, специалист, переводчик, понятой).
На первый взгляд, все три указанные функции являются основными, они находятся в гармоничном и неразрывном единстве, любая из них неизбежно и закономерно предполагает наличие двух других, каждая процессуальная функция существует и развивается лишь постольку, поскольку существуют и развиваются две остальные. Однако при ближайшем рассмотрении получается, что обвинение и защита выполняют одну и ту же функцию – функцию доказывания.
 Теория разделения уголовно-процессуальных функций распределяет полномочия только между отдельными группами участников, объединенных общностью интереса, без дальнейшего распределения указанного объема полномочий внутри конкретной группы. Однако демократичность уголовного процесса не зависит от одного только характера распределения полномочий между группами участников уголовного процесса. Не меньшее значение имеет характер распределения полномочий между участниками, сосредоточенными в одной группе, их уголовно-процессуальными отношениями[23].
Теория разделения уголовно-процессуальных функций распределяет полномочия только между отдельными группами участников, объединенных общностью интереса, без дальнейшего распределения указанного объема полномочий внутри конкретной группы. Однако демократичность уголовного процесса не зависит от одного только характера распределения полномочий между группами участников уголовного процесса. Не меньшее значение имеет характер распределения полномочий между участниками, сосредоточенными в одной группе, их уголовно-процессуальными отношениями[23].
Однако, между всеми участниками уголовного процесса существует некая связь, которая заключается в доказывании виновности или невиновности лица по уголовному делу и тем самым решается задача назначения справедливого наказания виновному лицу и освобождения от уголовной ответственности и наказания невиновного в совершении преступления.
Объективно в человеческой деятельности сложилось двуединство: доказывание–решение. Нельзя решать судьбу уголовного иска без доказывания. Доказывание бесцельно, если процессуальное решение не требуется. Обвинение и защита имеют одну и ту же функцию – доказывание. Различаются только задачи доказывания: одна сторона пытается сформировать систему обвинительных доказательств, а другая – систему оправдательных.
Полагаем, что в функции доказывания проявляются общие закономерности: 1) возникновения доказательств-источников различного вида;2) формирования и оценки частных доказательственных систем;3) установления доказательственных фактов;4) представления и оперирования доказательственными системами.Кроме того, в функции доказывания могут проявиться специфические закономерности: 1) доказывания в рамках определенной уголовно-процессуальной формы; 2) доказывания по отдельным категориям уголовных дел (отдельным видам уголовных исков). Круг вопросов, которые могут изучаться в функции доказывания может меняться[24]. В структурном отношении функция доказывания необходимо анализировать как по «вертикали» – по уровням доказывания, так и по «горизонтали» – по элементам, находящимся на каждом уровне: 1) информационном; 2) доказательственном; 3) уровне доказательственных фактов; 4) уровне главного факта (предмета доказывания)[25].
Для функции доказывания актуально: во-первых, что любое обоснование-доказательство одной стороны уголовного процесса не может ничего доказать без возможности его проверки другой стороной; во-вторых, что обоснование-доказательство может существовать только в системе иных обоснований-доказательств; в-третьих, что любая система обоснований-доказательств стороны уголовного процесса представляет лишь предположение-версию о доказанности элемента предмета доказывания до тех пор, пока досудебные доказательства не станут судебными[26].
Для функции принятия решения важно: 1) оценить достаточность системы доказательств по уголовному делу (материалов предварительной проверки); 2) выявить и объяснить имеющиеся противоречия между доказательствами; 3) принять один из вариантов решения – либо продолжить собирание доказательств (в том числе и за счет проверки имеющихся), либо прекратить производство по делу, либо передать по подследственности (подсудности), либо вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, либо оправдательный или обвинительный приговор и т.д.
Таким образом, вряд ли можно говорить о наличии единой, общепризнанной и непротиворечивой классификации функций. Отсутствие такого единства не может вызвать серьезных затруднений, как в функциональном анализе, так и в применении результатов этого анализа.
Никто из процессуалистов не писал о методологическом принципе изоморфизма (соответствия, «зеркальности») между функцией доказывания и функцией принятия решения. Та и другая функция являются «порождаемыми» от более общей «порождающей» структуры – структуры человеческой деятельности вообще.
[1]Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М., 1978. – С. 265.
[2]Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 1993. – С. 890.
[3]Алексеев С.С. Общая теория права. Курс в 2 т. – М., 1981. – Т. 1 – С. 189. См.: Зусь Л.Б. Правовое регулирование в сфере уголовного судопроизводства. – Владивосток, 1984. – С. 9–21.
[4]Зорькин В.Д. Позитивная теория права в России. – М., 1978. – С. 72.
[5]Лазарев В.В. Теория государства и права. – М., 2002. – С. 130.
[6]Зусь Л.Б. Правовое регулирование в сфере уголовного судопроизводства. – Владивосток, 1984. – С. 9–21.
[7]Лазарев В.В. Теория государства и права. – М., 2002. – С. 131.
[8]Зинатуллин З.З. Уголовно-процессуальные функции. – Ижевск, 2002. – С. 6–7.
[9]Павлов С. Проблема на основните функции социалистическия наказателен процесс. – София, 1966. – С. 7.
[10]Карев Д.С. Сущность и задачи уголовного процесса. – М. 1968. – С. 24.
[11]Зеленецкий В.С. Возбуждение государственного обвинения в советском уголовном процессе. – Харьков, 1979. – С. 57.
[12]Рахунов Р.Д. Участники уголовно-процессуальной деятельности по советскому праву. – М., 1961. – С.47–48.[13]Познанский В.А.., Цыпкин А.П. и др. Советский уголовный процесс. Часть общая. – Саратов, 1968. – С.21–24; Элькинд П.С. Сущность советского уголовно-процессуального права. – Л., 1963. – С. 60–66; Алексеев Н.С.., Лукашевич В.З., Элькинд П.С. Уголовный процесс. 1966. – С.13–15; и др.
[14]Мариупольский Л.А., Гольст Г.Р. К вопросу о процессуальных функциях следователя // Советское государство и право. 1963. – № 6. – С. 115.
[15]Шпилев В.Н. Участники уголовного процесса. – Минск, 1970. – С. 61; он же: Содержание и функции уголовного судопроизводства. – Минск, 1974. – С. 23.
[16]Зинатуллин З.З. Уголовно-процессуальные функции. – Ижевск. 2002. –С. 19.
[17]Шпилев В.Н. Содержание и функции уголовного судопроизводства. – Минск, 1974. С.57
[18]Случевский В.Л. Учебник уголовного процесса. – СПб., 1910. –С. 504–505.
[19]См.: Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. 5-е изд. – СПб., 1996. – Т. 1. – С. 63–64. По необъяснимым причинам идея концепции уголовного иска приписывается исключительно Н.Н. Полянскому. См. об этом: Павлушина А.А. Теория юридического процесса: итоги, проблемы, перспективы развития. – Самара, 2005. – С. 12. Быть может, пальма первенства была отдана именно Н.Н. Полянскому потому, что на него пришлась волна идеологической критики. Вполне развитую форму концепция уголовного иска нашла отражение в коллективной монографии: Проблемы судебного права. – М., 1983.
[20]Мотовиловкер Я.О. Основные уголовно-процессуальные функции. – Ярославль, 1976. – С. 11.
[21]Голунский С.А. Вопросы доказательственного права в Основах уголовного судопроизводства и судоустройства в новом законодательстве Союза ССР. – М., 1959. – С. 125.
[22]Ларин А.М. Расследование по уголовному делу: процессуальные функции. – М. 1986. – С. 5.
[23]Ягофаров Ф.М. функция реализации функций при рассмотрении дела судом первой инстанции: Автореф… дис. канд. юрид. наук. – Ярославль, 2003. – С.13–15.
[24] В связи с обоснованием так называемой «уголовно-процессуальной характеристики преступной деятельности» актуальными для функции доказывания становится изучение иных «закономерных особенностей». См.: Петухов Е.Н. Понятие и структура уголовно-процессуальной характеристики преступной деятельности (преступлений) в кредитно-банковской сфере // Нижегородский юрист. – Н. Новгород, 2001. – Вып. 4. – С. 44.
[25]См.: Колдин В.Я. Уровни уголовно-процессуального доказывания // Советское государство и право, 1974. – С. 89.
[26]См. об этом: Круглов И.В., Лубин А.Ф. Источники, доказательства и уровни доказывания // Современные проблемы уголовного судопроизводства России: Сб. науч. статей. – Н. Новгород, 1999. – C. 39 – 56.
Гончан Ю.А, профессор, к.ю.н., Югорский государственный университетПиксин Н.Н., адвокат
опубликовано в журнале «Российский следователь» № 7/2007
С одной стороны, по С.И. Ожегову «функция – это есть полномочия»[1]. Позднее С.И. Ожегов определяет функцию как обязанность, круг деятельности[2]. С другой стороны, общепринято понимать, что функция права – это: 1) социальное назначение права[3]; 2) направление правового воздействия на общественные отношения[4]; 3) то и другое вместе взятое.
Последний вариант, по сути, является «парадигмальным» для уголовного процесса. Так, В.В. Лазарев утверждает: «Понятие «функции права» должно охватывать одновременно как назначение права, так и вытекающие из этого направления его воздействия на общественные отношения. Раскрывая содержание какой-либо функции права, необходимо постоянно иметь в виду связь назначения права с направлениями его воздействия и наоборот. Собственно функция права – это реализация его социального назначения»[5]. Но и без этого утверждения, например, Л.Б. Зусь выделяет и рассматривает три вида социальных функций уголовного процесса: 1) общесоциальную; 2) социально-политическую; 3) специально-юридическую[6].
В.В. Лазарев отмечал «Функция – это «свечение» сущности права в общественных отношениях, но в то же время, будучи проявлением имманентных свойств сущности, функция не сводится к ним и не является простой их «проекцией»[7].
Так или иначе, в теории уголовно-процессуального права можно видеть, что доминирует экстраполяция (перенос) общеправовых представлений о функциях на отраслевой уровень. Никто не мог и не хотел выйти за границы общепринятой доктрины, что уголовно-процессуальные функции – это определенные направления деятельности участников уголовного процесса, осуществляемые в целях решения задач уголовного судопроизводства[8].
Именно в связи с этими направлениями и проводятся классификационные исследования в теории уголовного процесса. При этом наблюдается два подхода – «минималистский» и «максималистский». Одни исповедуют взгляд: нужно говорить только об «основных» функциях, а «дополнительные» (факультативные) – в порядке примечания.
В свое время «минималист» Стефан Павлов рассматривал три функции: а) обвинительную; б) защиты; в) процессуального руководства и разрешения вопросов, возникающих в соответствующих стадиях уголовного процесса[9].
По мнению «максималистов», эти три процессуальные функции лишь основные, первостепенные, но ими не исчерпывается все функциональное многообразие уголовно-процессуальной деятельности. Поэтому наряду с основными функциями действуют и другие процессуальные функции[10].
Скажем, В.С. Зеленецкий предлагал делить процессуальные функции на общие и частные, то есть на функции, реализующиеся на всем протяжении уголовного процесса, и функции, осуществляющиеся в одной или нескольких стадиях процесса. Вероятно, автор здесь допустил смешение понятий «задачи» и «функции»[11].
«Максималисты» расходятся как в названиях, так и в количестве функций. В частности, к трем основным функциям добавляется: 1) расследование дела; 2) поддержание гражданского иска; 3) защиту от гражданского иска[12].
Существуют варианты, когда к этим «дополнительным» функциям причисляется еще
 целый ряд «побочных» (для удобства – продолжим нумерацию): 4) прокурорский надзор; 5) установление, проверка данных относительно преступлений; 6) судебное рассмотрение и разрешение уголовного дела; 7) действия свидетелей, экспертов и других лиц, так или иначе содействующих осуществлению следственных и судебных действий; 8) надзор вышестоящих судебных органов за судебной деятельностью нижестоящих судов[13].
целый ряд «побочных» (для удобства – продолжим нумерацию): 4) прокурорский надзор; 5) установление, проверка данных относительно преступлений; 6) судебное рассмотрение и разрешение уголовного дела; 7) действия свидетелей, экспертов и других лиц, так или иначе содействующих осуществлению следственных и судебных действий; 8) надзор вышестоящих судебных органов за судебной деятельностью нижестоящих судов[13]. Наконец, были предложения, чтобы к числу процессуальных функций отнести: 9) предупреждение преступлений и искоренение их причин; 10) привлечение общественности к борьбе с преступностью; 11) воспитание граждан в духе неуклонного исполнения законов и уважения правил социалистического общежития; 12) обеспечение возмещения причиненного преступлением материального ущерба[14].
Последующие классификационные варианты отличались только редакцией названий процессуальных функций[15]. При этом разворачиваются «внутриклассификационные» споры по поводу, например, того, что представляет собой та или иная «вспомогательная функция»[16]. Как правило, та или иная классификация процессуальных функций не имеет оснований того, что же конкретно положено в основу такой классификации. Что же касается вульгарных попыток того, что каждому участнику будет «выделена» только ему свойственная функция, то количество процессуальных функций будет стремиться к количеству участников уголовного процесса. Это положение подтверждается, если проанализировать взгляды ученых, которые объясняют наличие уголовно-процессуальных функций через роль конкретных участников уголовного процесса.
Именно так, например, В.Н. Шпилев обосновывал необходимость количественного увеличения уголовно-процессуальных функций: «Поскольку теория трех основных процессуальных функций не в полной мере отражает содержание уголовно-процессуальной деятельности, где каждый участник процесса выполняет определенную функцию и действует в определенном направлении, предусмотренном законом, предприняты попытки сконструировать более широкую систему процессуальных функций»[17].
На наш взгляд, речь должна идти о необходимых и достаточных функциях, условно говоря, «мирового» модельного уголовно-процессуального кодекса. Можно сформулировать проблему иначе: возникла необходимость подлинно научной, вненациональной стандартизации модели «базового», универсального судопроизводства, такой модели, которая бы в наименьшей степени подвержена национально-идеологическим влияниям.
Вполне актуальна научная гипотеза: тип уголовного процесса детерминируется набором и соотношением функций его участников (субъектов). В свою очередь, цели-результаты уголовного процесса детерминируют количество и содержание самих функций.
Трудно найти момент в истории цивилизации, когда возник уголовный процесс. То же самое можно сказать и о функциях. Более того, невозможно сказать, какая функция уголовного судопроизводства появилась первой, а какая – второй. Они появлялись разом: функция доказывания и функция принятия процессуального решения. Как изображение на фотографии при проявке. Не сверху вниз, не от центра к периферии – а постепенно, но одновременно, хотя и с разной скоростью проявления. Но скрытое изображение всей фотографии уже было заложено еще до проявки.
Нарождаясь, эти две названные функции вписываются в пространственно-временную систему общества, как его необходимая часть или как его продукт, живущий относительно самостоятельной жизнью. Функция доказывания и функция принятия решений рождают органы, но не наоборот – орган не рождает функцию. Представляется, что в той мере, в какой общество воздействует на функции, приспосабливая к себе, в такой же мере функции приспосабливаются к обществу.
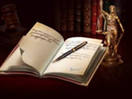 С точки зрения функционального анализа, обе функции уголовного процесса должны быть настроены на достижение цели, на получение определенного результата. Такая настройка – итог адаптации, усвоения и закрепления внутренних («собственных», благоприобретенных) и внешних ценностей общества. Это – необходимый аспект социализации уголовного судопроизводства и предпосылка его нормального функционирования. Функции появились, укрепились, возмужали и выстояли в сражении с внешними факторами благодаря их повторяемости и ритмичности. Функции накапливают и сохраняют память о цели функционирования.
С точки зрения функционального анализа, обе функции уголовного процесса должны быть настроены на достижение цели, на получение определенного результата. Такая настройка – итог адаптации, усвоения и закрепления внутренних («собственных», благоприобретенных) и внешних ценностей общества. Это – необходимый аспект социализации уголовного судопроизводства и предпосылка его нормального функционирования. Функции появились, укрепились, возмужали и выстояли в сражении с внешними факторами благодаря их повторяемости и ритмичности. Функции накапливают и сохраняют память о цели функционирования. Развивая учение о процессуальных функциях, В.Л. Случевский проблему функций увязывал не только с разделением труда между сторонами уголовного процесса, но и стоящими перед правосудием целями[18].
Тогда закономерен вопрос: что является целью уголовного процесса?
И.Я. Фойницкий без особых комментариев прямо утверждал: «Роль суда сводится к разрешению уголовного иска, предъявленного обвинителем как стороной процесса и оспариваемого подсудимым (его представителем) как участником другой, противоположной стороны уголовного процесса»[19].
Здесь, как видим, И.Я. Фойницкий достаточно четко выделяет три процессуальных функции: 1) обвинение, именуемое уголовным иском; 2) защита от обвинения (защита от уголовного иска) и 3) разрешение уголовного иска по существу.
О.Я. Мотовиловкер утверждал, что именно в уголовном процессе, который не мыслим без обвинения, защиты и разрешения дела существует специфическая проблема размежевания их и разграничения потому, что до сих пор не удается решить вопросов: что такое уголовно-процессуальная функция; сколько их; кто их осуществляет[20].
С.А. Голунский считал, что концепция процессуальных функций не совместима с закрепленными в основах уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик 1958 г. принципами всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств уголовного дела[21].
А.М. Ларин полагал, что «если исходить только из наличия процессуально-правовой цели, то можно насчитать столько функций, сколько существует процессуальных актов». Поэтому А.М. Ларин делает вывод: «Функция – это не отдельное действие, а деятельность, т.е. совокупность действий и решений, объединенных единством цели»[22].
В действующем УПК РФ (главы 5–8) можно видеть «функциональные» стороны в зависимости от их интересов на три группы:1) суд; 2) сторону обвинения (прокурор, следователь, начальник следственного отдела, дознаватель, частный обвинитель, потерпевший, его законный представитель и представитель, гражданский истец и его представитель);3) сторону защиты (подозреваемый, обвиняемый, их законные представители, защитник, гражданский ответчик, его законные представитель и представитель), а также иных участников уголовного судопроизводства
Иные участники не должны иметь особых «функциональных» интересов (свидетель, эксперт, специалист, переводчик, понятой).
На первый взгляд, все три указанные функции являются основными, они находятся в гармоничном и неразрывном единстве, любая из них неизбежно и закономерно предполагает наличие двух других, каждая процессуальная функция существует и развивается лишь постольку, поскольку существуют и развиваются две остальные. Однако при ближайшем рассмотрении получается, что обвинение и защита выполняют одну и ту же функцию – функцию доказывания.
 Теория разделения уголовно-процессуальных функций распределяет полномочия только между отдельными группами участников, объединенных общностью интереса, без дальнейшего распределения указанного объема полномочий внутри конкретной группы. Однако демократичность уголовного процесса не зависит от одного только характера распределения полномочий между группами участников уголовного процесса. Не меньшее значение имеет характер распределения полномочий между участниками, сосредоточенными в одной группе, их уголовно-процессуальными отношениями[23].
Теория разделения уголовно-процессуальных функций распределяет полномочия только между отдельными группами участников, объединенных общностью интереса, без дальнейшего распределения указанного объема полномочий внутри конкретной группы. Однако демократичность уголовного процесса не зависит от одного только характера распределения полномочий между группами участников уголовного процесса. Не меньшее значение имеет характер распределения полномочий между участниками, сосредоточенными в одной группе, их уголовно-процессуальными отношениями[23]. Однако, между всеми участниками уголовного процесса существует некая связь, которая заключается в доказывании виновности или невиновности лица по уголовному делу и тем самым решается задача назначения справедливого наказания виновному лицу и освобождения от уголовной ответственности и наказания невиновного в совершении преступления.
Объективно в человеческой деятельности сложилось двуединство: доказывание–решение. Нельзя решать судьбу уголовного иска без доказывания. Доказывание бесцельно, если процессуальное решение не требуется. Обвинение и защита имеют одну и ту же функцию – доказывание. Различаются только задачи доказывания: одна сторона пытается сформировать систему обвинительных доказательств, а другая – систему оправдательных.
Полагаем, что в функции доказывания проявляются общие закономерности: 1) возникновения доказательств-источников различного вида;2) формирования и оценки частных доказательственных систем;3) установления доказательственных фактов;4) представления и оперирования доказательственными системами.Кроме того, в функции доказывания могут проявиться специфические закономерности: 1) доказывания в рамках определенной уголовно-процессуальной формы; 2) доказывания по отдельным категориям уголовных дел (отдельным видам уголовных исков). Круг вопросов, которые могут изучаться в функции доказывания может меняться[24]. В структурном отношении функция доказывания необходимо анализировать как по «вертикали» – по уровням доказывания, так и по «горизонтали» – по элементам, находящимся на каждом уровне: 1) информационном; 2) доказательственном; 3) уровне доказательственных фактов; 4) уровне главного факта (предмета доказывания)[25].
Для функции доказывания актуально: во-первых, что любое обоснование-доказательство одной стороны уголовного процесса не может ничего доказать без возможности его проверки другой стороной; во-вторых, что обоснование-доказательство может существовать только в системе иных обоснований-доказательств; в-третьих, что любая система обоснований-доказательств стороны уголовного процесса представляет лишь предположение-версию о доказанности элемента предмета доказывания до тех пор, пока досудебные доказательства не станут судебными[26].
Для функции принятия решения важно: 1) оценить достаточность системы доказательств по уголовному делу (материалов предварительной проверки); 2) выявить и объяснить имеющиеся противоречия между доказательствами; 3) принять один из вариантов решения – либо продолжить собирание доказательств (в том числе и за счет проверки имеющихся), либо прекратить производство по делу, либо передать по подследственности (подсудности), либо вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, либо оправдательный или обвинительный приговор и т.д.
Таким образом, вряд ли можно говорить о наличии единой, общепризнанной и непротиворечивой классификации функций. Отсутствие такого единства не может вызвать серьезных затруднений, как в функциональном анализе, так и в применении результатов этого анализа.
Никто из процессуалистов не писал о методологическом принципе изоморфизма (соответствия, «зеркальности») между функцией доказывания и функцией принятия решения. Та и другая функция являются «порождаемыми» от более общей «порождающей» структуры – структуры человеческой деятельности вообще.
[1]Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М., 1978. – С. 265.
[2]Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 1993. – С. 890.
[3]Алексеев С.С. Общая теория права. Курс в 2 т. – М., 1981. – Т. 1 – С. 189. См.: Зусь Л.Б. Правовое регулирование в сфере уголовного судопроизводства. – Владивосток, 1984. – С. 9–21.
[4]Зорькин В.Д. Позитивная теория права в России. – М., 1978. – С. 72.
[5]Лазарев В.В. Теория государства и права. – М., 2002. – С. 130.
[6]Зусь Л.Б. Правовое регулирование в сфере уголовного судопроизводства. – Владивосток, 1984. – С. 9–21.
[7]Лазарев В.В. Теория государства и права. – М., 2002. – С. 131.
[8]Зинатуллин З.З. Уголовно-процессуальные функции. – Ижевск, 2002. – С. 6–7.
[9]Павлов С. Проблема на основните функции социалистическия наказателен процесс. – София, 1966. – С. 7.
[10]Карев Д.С. Сущность и задачи уголовного процесса. – М. 1968. – С. 24.
[11]Зеленецкий В.С. Возбуждение государственного обвинения в советском уголовном процессе. – Харьков, 1979. – С. 57.
[12]Рахунов Р.Д. Участники уголовно-процессуальной деятельности по советскому праву. – М., 1961. – С.47–48.[13]Познанский В.А.., Цыпкин А.П. и др. Советский уголовный процесс. Часть общая. – Саратов, 1968. – С.21–24; Элькинд П.С. Сущность советского уголовно-процессуального права. – Л., 1963. – С. 60–66; Алексеев Н.С.., Лукашевич В.З., Элькинд П.С. Уголовный процесс. 1966. – С.13–15; и др.
[14]Мариупольский Л.А., Гольст Г.Р. К вопросу о процессуальных функциях следователя // Советское государство и право. 1963. – № 6. – С. 115.
[15]Шпилев В.Н. Участники уголовного процесса. – Минск, 1970. – С. 61; он же: Содержание и функции уголовного судопроизводства. – Минск, 1974. – С. 23.
[16]Зинатуллин З.З. Уголовно-процессуальные функции. – Ижевск. 2002. –С. 19.
[17]Шпилев В.Н. Содержание и функции уголовного судопроизводства. – Минск, 1974. С.57
[18]Случевский В.Л. Учебник уголовного процесса. – СПб., 1910. –С. 504–505.
[19]См.: Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. 5-е изд. – СПб., 1996. – Т. 1. – С. 63–64. По необъяснимым причинам идея концепции уголовного иска приписывается исключительно Н.Н. Полянскому. См. об этом: Павлушина А.А. Теория юридического процесса: итоги, проблемы, перспективы развития. – Самара, 2005. – С. 12. Быть может, пальма первенства была отдана именно Н.Н. Полянскому потому, что на него пришлась волна идеологической критики. Вполне развитую форму концепция уголовного иска нашла отражение в коллективной монографии: Проблемы судебного права. – М., 1983.
[20]Мотовиловкер Я.О. Основные уголовно-процессуальные функции. – Ярославль, 1976. – С. 11.
[21]Голунский С.А. Вопросы доказательственного права в Основах уголовного судопроизводства и судоустройства в новом законодательстве Союза ССР. – М., 1959. – С. 125.
[22]Ларин А.М. Расследование по уголовному делу: процессуальные функции. – М. 1986. – С. 5.
[23]Ягофаров Ф.М. функция реализации функций при рассмотрении дела судом первой инстанции: Автореф… дис. канд. юрид. наук. – Ярославль, 2003. – С.13–15.
[24] В связи с обоснованием так называемой «уголовно-процессуальной характеристики преступной деятельности» актуальными для функции доказывания становится изучение иных «закономерных особенностей». См.: Петухов Е.Н. Понятие и структура уголовно-процессуальной характеристики преступной деятельности (преступлений) в кредитно-банковской сфере // Нижегородский юрист. – Н. Новгород, 2001. – Вып. 4. – С. 44.
[25]См.: Колдин В.Я. Уровни уголовно-процессуального доказывания // Советское государство и право, 1974. – С. 89.
[26]См. об этом: Круглов И.В., Лубин А.Ф. Источники, доказательства и уровни доказывания // Современные проблемы уголовного судопроизводства России: Сб. науч. статей. – Н. Новгород, 1999. – C. 39 – 56.
Гончан Ю.А, профессор, к.ю.н., Югорский государственный университетПиксин Н.Н., адвокат
опубликовано в журнале «Российский следователь» № 7/2007
Автор публикации
Юрист
Gonchan1u
Россия, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Ханты-Мансийск
Комментарии (3)
Теория — это, конечно, интересно, но слишком заумно и сухо. Хотелось бы, для наглядности, и примеры почитать, ну хотя-бы ссылки на случаи из практики.
Имеется ли обязательный для исполнения в ХМАО-Югре нормативный акт о разграничении компетенций отделов МВД России по территориям, как он называется, и где можно ознакомиться с его текстом?
Статьи
Адвокат в уголовном процессе: понятие «процессуальной справедливости»
Адвокат
Федоровская Наталья Руслановна
27 Января 2011, 23:40
Статьи
Актуальные вопросы института реабилитации в российском уголовном процессе
Адвокат
chupilkin
12 Октября 2015, 10:36
Статьи
Возможности адвоката по фиксации доказательств в уголовном процессе России с учетом принципа равенства ...
Адвокат
Федоровская Наталья Руслановна
27 Января 2011, 23:44
Статьи
Гражданский иск в уголовном процессе: реализация прав истца и ответчика.
Адвокат
nnpiksin
24 Января 2010, 11:29
Статьи
«Ходатайство заявлено преждевременно». О судьях, откладывающих принятие промежуточных решений в уголовном ...
Адвокат
Гурьев Вадим Иванович
04 Июня 2019, 18:08
Статьи
О фигуре и статусе прокурора в уголовном процессе
Адвокат
ludologer
18 Июня 2010, 22:29
Статьи
Тактика защиты потерпевшего в уголовном процессе (или немного размышлений и личная практика)
Адвокат
user16936
11 Июля 2016, 06:14
Статьи
Обеспечение адвокатом прав и законных интересов свидетеля в уголовном процессе
Адвокат
Федоровская Наталья Руслановна
28 Января 2011, 00:07
Эксклюзив!
Исключение доказательств и выявление фальсификации в уголовном процессе. Как это работает. Выступление ...
Адвокат
Шарапов Олег Александрович
26 Мая 2019, 07:58
Статьи
Как добиться результата в уголовном процессе, используя процесс гражданский
Юрист
glavred
19 Января 2011, 09:54
Статьи
Адвокат в уголовном процессе: понятие «процессуальной справедливости»
Адвокат
Федоровская Наталья Руслановна
27 Января 2011, 23:40
Статьи
Актуальные вопросы института реабилитации в российском уголовном процессе
Адвокат
chupilkin
12 Октября 2015, 10:36
Статьи
Возможности адвоката по фиксации доказательств в уголовном процессе России с учетом принципа равенства ...
Адвокат
Федоровская Наталья Руслановна
27 Января 2011, 23:44
Статьи
Гражданский иск в уголовном процессе: реализация прав истца и ответчика.
Адвокат
nnpiksin
24 Января 2010, 11:29
Статьи
«Ходатайство заявлено преждевременно». О судьях, откладывающих принятие промежуточных решений в уголовном ...
Адвокат
Гурьев Вадим Иванович
04 Июня 2019, 18:08
Статьи
О фигуре и статусе прокурора в уголовном процессе
Адвокат
ludologer
18 Июня 2010, 22:29
Статьи
Тактика защиты потерпевшего в уголовном процессе (или немного размышлений и личная практика)
Адвокат
user16936
11 Июля 2016, 06:14
Статьи
Обеспечение адвокатом прав и законных интересов свидетеля в уголовном процессе
Адвокат
Федоровская Наталья Руслановна
28 Января 2011, 00:07
Эксклюзив!
Исключение доказательств и выявление фальсификации в уголовном процессе. Как это работает. Выступление ...
Адвокат
Шарапов Олег Александрович
26 Мая 2019, 07:58
Статьи
Как добиться результата в уголовном процессе, используя процесс гражданский
Юрист
glavred
19 Января 2011, 09:54
Ваши персональные заметки к публикации
Видны только вам
Вы можете сохранять заметки к публикациям только в разделах Персональный и Песочница. Для снятия ограничений
подключите ПРО-аккаунт
ПЕРСОНАЛЬНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Специализируюсь на защите и представительстве по уголовным делам.
В рамках адвокатской деятельности оказываю юр. помощь по многим вопросам.
Являюсь также профессиональным медиатором.
В рамках адвокатской деятельности оказываю юр. помощь по многим вопросам.
Являюсь также профессиональным медиатором.
ПЕРСОНАЛЬНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Сложные гражданские, уголовные и административные дела экономической направленности.
Дорого, но зато качественно. Все встречи и консультации, в т.ч. дистанционные только по предварительной записи.
Дорого, но зато качественно. Все встречи и консультации, в т.ч. дистанционные только по предварительной записи.
ПЕРСОНАЛЬНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
● Недвижимость. Легализация самостроя. Наследство. Земля. Суды с ДГИ Москвы.
● Арбитраж. Банкротство. ФАС. Юридическое сопровождение вашего бизнеса.
● Юрист по ВЭД. Споры с ФТС. Международное право.
● Арбитраж. Банкротство. ФАС. Юридическое сопровождение вашего бизнеса.
● Юрист по ВЭД. Споры с ФТС. Международное право.
ПЕРСОНАЛЬНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Сопровождение бизнеса и IT: КИИ, ФСТЭК, налоги. Защита директоров и собственников в делах о банкротстве и субсидиарной ответственности. Налоговые преступления (ст.198,199). 20+ лет опыта, 250+ кейсов
ПЕРСОНАЛЬНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Моя специализация бизнес и финансы.
Защита по сложным уголовным экономическим делам.
Борьба с фальсификациями и незаконными методами расследования. Опыт, надёжность, добросовестность!
Защита по сложным уголовным экономическим делам.
Борьба с фальсификациями и незаконными методами расследования. Опыт, надёжность, добросовестность!
Разместить свою визитку
Похожие публикации
Адвокат в уголовном процессе: понятие «процессуальной справедливости»
Статьи, 27 Января 2011, 23:40 27 Января 2011, 23:40
Актуальные вопросы института реабилитации в российском уголовном процессе
Статьи, 12 Октября 2015, 10:36 12 Октября 2015, 10:36
Возможности адвоката по фиксации доказательств в уголовном процессе России с учетом принципа равенства ...
Статьи, 27 Января 2011, 23:44 27 Января 2011, 23:44
Гражданский иск в уголовном процессе: реализация прав истца и ответчика.
Статьи, 24 Января 2010, 11:29 24 Января 2010, 11:29
«Ходатайство заявлено преждевременно». О судьях, откладывающих принятие промежуточных решений в уголовном ...
Статьи, 04 Июня 2019, 18:08 04 Июня 2019, 18:08
О фигуре и статусе прокурора в уголовном процессе
Статьи, 18 Июня 2010, 22:29 18 Июня 2010, 22:29
Тактика защиты потерпевшего в уголовном процессе (или немного размышлений и личная практика)
Статьи, 11 Июля 2016, 06:14 11 Июля 2016, 06:14
Обеспечение адвокатом прав и законных интересов свидетеля в уголовном процессе
Статьи, 28 Января 2011, 00:07 28 Января 2011, 00:07
Исключение доказательств и выявление фальсификации в уголовном процессе. Как это работает. Выступление ...
Эксклюзив!, 26 Мая 2019, 07:58 26 Мая 2019, 07:58
Как добиться результата в уголовном процессе, используя процесс гражданский
Статьи, 19 Января 2011, 09:54 19 Января 2011, 09:54
Продвигаемые публикации
Поздравление с Днем защитника Отечества
Новости проекта, 21 Февраля, 11:30 21 Февраля, 11:30
Как понять, что адвокат-защитник по уголовным делам хороший и где его найти?
Статьи, 13 Февраля, 18:55 13 Февраля, 18:55
Как работа с потерпевшим может помочь избежать реального лишения свободы. Условное наказание за совершение ...
Судебная практика, 03 Февраля, 19:14 03 Февраля, 19:14
Защита ветерана: путь от «фильма ужасов» на видео до условного срока по ст. 111 и 119 УК РФ
Судебная практика, 31 Января, 14:56 31 Января, 14:56
Кому на самом деле принадлежат тематические фотографии из поиска Яндекса и сколько стоит бесплатная картинка ...
Статьи, 28 Января, 10:05 28 Января, 10:05
Консультация юриста в 2026: как выбрать правильного юриста и не попасть на жулика
Личные блоги, 19 Января, 16:29 19 Января, 16:29
Зачет сроков применения мер пресечения при подаче ходатайства об УДО. Юридическая арифметика - как время ...
Статьи, 09 Января, 12:37 09 Января, 12:37

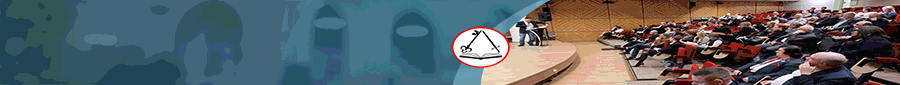

Все верно, все правильно,… в теории, а на практике, суды "вытягивают" даже самые "безобразные" (в смысле обоснованности и доказанности) обвинения, "чтобы не нарушать статистику"...