
Почти шесть лет назад, 28 августа 2014 года, я публиковал на портале по статью: Праворуб: Сами расследуем, сами экспертизы проводим...
Речь, шла, напомню, о стремлении законодательно наделить Следственный комитет правом проведения экспертиз по уголовным делам. Забегу вперед: наделили. Не сразу, и не просто, но продавили. Не мытьем, так катанием. И вопреки требованиям УПК, о чем подробно написано в упомянутой статье. При этом уголовно-процессуальный закон изменений не претерпел, и никто даже не планировал такие изменения вносить!
Настоящая публикация имеет целью рассказать, кто и по каким мотивам добивался в ГД и СФ принятия законодательных изменений полномочий СК в части производства экспертиз, показать, мягко говоря, «слабость» их аргументации. В виду чрезвычайной важности вопроса, выступления «за» и «против» законопроекта решил цитировать в большей части дословно, дабы не быть обвиненным в неточности и передергивании фактически сказанного. Порассуждал я и на тему, как быть правоприменителям (в том числе защитникам), с несоответствием изменений требованиям УПК, к каким очевидным последствиям, в том числе нежелательным политическим, эти изменения могут привести.
***
Итак, все начиналось с законопроекта №306504-6 «О судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», внесенного Правительством РФ в ГД 29 июня 2013 года. В этом законопроекте подразделения СК РФ предполагались, как имеющие право на производство судебных экспертиз по уголовным делам.
В частности, в пояснительной записке к подготовленному Минюстом РФ законопроекту «О судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», внесенному в Государственную Думу Правительством РФ 29.06.2013 за № 3746-П, в качестве органа, обладающего правом создавать экспертные организации, указан Следственный комитет РФ. В записке отмечено: «Правом создания специализированных экспертных организаций и экспертных подразделений наделяются федеральные органы государственной власти (в т.ч. Следственный комитет Российской Федерации), уполномоченные в области судебно-экспертной деятельности, созданные для организации и производства судебной экспертизы». Опубликована записка на сайте ГД.
В статье 11 действовавшего тогда закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» упоминания о Следственном комитете РФ в указанном контексте не имелось. Эта статья имела следующее содержание:
«Государственными судебно-экспертными учреждениями являются специализированные учреждения федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, созданные для обеспечения исполнения полномочий судов, судей, органов дознания, лиц, производящих дознание, следователей посредством организации и производства судебной экспертизы».
СК органом исполнительной власти не является, а потому не подпадал под действие этого закона, в связи с чем и планировалось последний изменить.
Законопроект свыше пяти лет ходил в ГД, пока 10 июля 2018 года Советом Государственной Думы не было перенесено его рассмотрение, которое до сих пор не возобновлено.
Тогда, как это видно из документов ГД, заинтересованными лицами решено было зайти не со стороны ранее предполагавшегося широкого изменения закона «О судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», а только в части, касающейся СК, равно как со стороны изменения и самого закона «О Следственном комитете Российской Федерации». В этой связи Президентом РФ был внесен в ГД законопроект № 663034-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» и Федеральный закон «О следственном комитете Российской Федерации», зарегистрированный в ГД 12 марта 2019 года.
Теперь, после использования «тяжелой артиллерии» в виде законодательной инициативы Президента РФ, многолетних затруднений не возникло, уже 16 июля 2019 года закон принят ГД, 23 июля 2019 года одобрен СФ, подписан Президентом РФ 26 июля 2019 года за № 224-ФЗ.
***
Каковы же аргументы сторонников и противников расширения полномочий СК в указанной части? Чтобы облегчить задачу читателям, цитирую почти все выступления дословно, дабы никому не пришлось обращаться за ними к тексту Стенограмм.
Сначала о тех, кто «за».
Как следует из стенограммы заседания ГД от 20 ноября 2013 года, Е.А.Борисенко, официальным представителем Правительства Российской Федерации, тогда заместителем министра юстиции Российской Федерации (стенограмма заседания 20.11.2013) http://transcript.duma.gov.ru/node/3963/, утверждалось, будто
— «законопроект уточняет и конкретизирует положения процессуальных кодексов, не вступая в противоречие с ними»,
— «принятие закона позволит повысить качество правосудия и сократить количество судебных ошибок»,
— «в результате принятия закона будут созданы механизмы судебно-экспертной деятельности, способствующие сокращению сроков производства экспертиз, отвечающие потребностям современного судопроизводства, будет обеспечен доступ к профессии судебного эксперта исключительно профессионалов, контроль качества экспертного производства и его научно обоснованного методического обеспечения».
Подобное утверждал в ГД спустя почти шесть лет (Стенограмма заседания ГД 28 мая 2019 года, http://transcript.duma.gov.ru/node/5205/) и В.И.Пискарёв, председатель Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции. Последний к числу главных аргументов принятия изменений указал то, что они позволят:
— «повысить качество предварительного следствия, своевременно возбуждать уголовные дела, сократить сроки проведения судебных экспертиз и соответственно сроки следствия и содержания обвиняемых под стражей».
Это же должностное лицо утверждало, будто
— «принятие закона будет способствовать не только созданию оптимальных условий для успешного выполнения поставленных перед Следственным комитетом задач в сфере уголовного судопроизводства, но и неукоснительному соблюдению законных прав участников этого судопроизводства»,
— «комитет по безопасности и противодействию коррупции поддержал данную инициативу»,
— «на сегодня существует система обеспечения качества экспертного исследования, по крайней мере его беспристрастности, — в Уголовном кодексе предусматривается уголовная ответственность за заведомо ложное заключение, — и поэтому перед тем, как приступить к производству экспертизы, эксперт предупреждается следователем о том, что, если заключение будет заведомо ложным, он понесёт уголовную ответственность, причём ответственность весьма и весьма серьёзную».
Г.В.Минх, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Государственной Думе, охарактеризовав общую задачу внесения изменений, указал:
— «Наша задача более локальная — мы совершенствуем правовую основу деятельности коллег из Следственного комитета».
***
Против законопроекта выступил депутат Ю.П.Синельщиков (бывший заместитель прокурора г.Москвы), который, как следует из той же Стенограммы, сказал:
«Прежде всего, мы не согласны с расширением задач Следственного комитета, которые обозначены в статье 1 закона «О Следственном комитете...». Наряду с задачей проведения предварительного расследования теперь у Следственного комитета появляется и задача производства судебной экспертизы, что, конечно же, для неё несвойственно.
Не можем согласиться и с расширением прав сотрудников Следственного комитета. Часть 1 статьи 7 дополняется пунктом 5 следующего содержания: теперь сотрудники имеют право назначать судебную экспертизу (ну ладно, нормально), поручать производство экспертизы конкретным экспертам, требовать её производства, осуществлять производство судебной экспертизы. Как многие юристы сейчас пишут в прессе — и не только в прессе, но и в научных трудах, — остаётся только ещё Следственному комитету выносить приговоры и приводить их в исполнение.
Мы не можем согласиться и с расширением структуры Следственного комитета — с тем, что предполагается создавать судебно-экспертные учреждения и организации.
Предложения, о которых мы говорим и которые сегодня предлагается утвердить через закон, во-первых, нарушают положения статьи 70 Уголовно-процессуального кодекса (эти положения не отменяются сегодня). В статье 70 установлено, что эксперт не вправе принимать участие в производстве по уголовному делу, «если он находился или находится в служебной или иной зависимости от сторон или их представителей», а эксперты Следственного комитета находятся в административном подчинении у руководителей следственного органа в соответствии с этим законопроектом — этот факт вызывал и будет вызывать вопросы в части объективности и независимости заключений этих экспертов.
Во-вторых, эти предложения противоречат нормам статьи 7 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». В статье 7 «Независимость эксперта» сказано: «При производстве судебной экспертизы эксперт независим, он не может находиться в какой-либо зависимости от органа или лица, назначивших судебную экспертизу, сторон и других лиц, заинтересованных в исходе дела… Не допускается воздействие на эксперта со стороны судов, судей, органов дознания… и отдельных лиц...». Аргументация, которая приводится, совершенно несостоятельна, и эксперт становится стороной обвинения, что вообще недопустимо.
Ну и Генеральная прокуратура категорически против того, чтобы существовали эксперты в системе Следственного комитета. Я напомню, Виктор Гринь в письме, направленном в Следственный комитет в июле 2018 года, заявил, что проведённая следователями судебно-медицинская экспертиза не может являться доказательством по уголовным делам.
Бастрыкин тогда обжаловал это письмо в личном обращении к генеральному прокурору Чайке, но в ноябре Чайка подтвердил позицию своего заместителя. Конституционный Суд в 2015 году высказывался за право проводить экспертизы, но позже Чайка, комментируя это решение, заявил, что изложенный в нём правовой смысл не свидетельствует о наличии такого права и не касается вопросов создания и обеспечения экспертных подразделений Следственного комитета.
Я полагаю, правильнее всего было бы сделать в стране независимое экспертное учреждение, которое могло бы быть подчинено правительству или, скажем, Министерству юстиции Российской Федерации. То есть можно пойти по тому пути, который существует в Белоруссии, и тогда эксперты были бы независимы. А сейчас не только Генеральная прокуратура, не только прокуратура выступают против этого, но против выступает большинство адвокатов, они регулярно обжалуют выводы ведомственных экспертов, которые, так сказать, представляют МВД и особенно Следственный комитет, требуют в судах назначения независимых экспертиз. И в целом ряде случаев, когда такие требования удовлетворяются, независимые эксперты дают совершенно иные заключения.
Ну а существующий довод, аргументация, мол, на сегодня якобы необходима такая ведомственная экспертиза, потому что обычные экспертные учреждения, независимые, сильно загружены, а вот в системе Следственного комитета это позволит проводить всё быстрее… Ну, коллеги, если есть возможность в системе Следственного комитета разгрузить экспертов, а значит, сделать благоприятными условия для его работы, давайте мы эти финансы, эти средства, которые идут на Следственный комитет, на их экспертов, вот эти государственные средства передадим в существующие экспертные учреждения или в какой-то единый экспертный орган, который будет создан у нас в стране, — и всё решится самой собой!
Ну и ещё один довод — узаконение и укрепление таких экспертиз в системе Следственного комитета якобы позволит ускорить проведение экспертиз — тоже не состоятелен, ибо ускорение проведения экспертиз всегда отрицательно влияет на качество.
Таким образом, этого допускать ни в коем случае нельзя, это регресс в развитии демократизма в нашем уголовном судопроизводстве».
***
Возражали Ю.П.Синельщикову.
Депутат Э.А.Валеевговорил:
— «прежде всего хотел бы заявить, что официальный представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации на заседании Комитета по безопасности и противодействию коррупции президентский законопроект поддержал и выразил официальную позицию Генеральной прокуратуры».
Э. А. Валеев также заявил:
— «…когда мы ведём речь об этом законопроекте, надо сказать, что он совершенно не подразумевает создания в Следственном комитете экспертных структур, — эти структуры существуют, они экспертизы проводят. В настоящее время государственная экспертная деятельность осуществляется Министерством юстиции, Министерством внутренних дел, Федеральной службой безопасности, Министерством здравоохранения и Министерством обороны, а кроме того, осуществляется негосударственная экспертная деятельность. Сегодня мы ведём речь о том, чтобы законопроектом, которым вносятся изменения в закон «О государственной судебно-экспертной деятельности...», в закон «О Следственном комитете...», придать деятельности экспертов в Следственном комитете именно характер деятельности государственных экспертов.
— Почему этот вопрос встал? Экспертная нагрузка на государственных экспертов сегодня в полтора раза превышает нормативы, и на сегодня стоимость проведённых экспертиз превышает объём бюджетного финансирования на 70 процентов.
— Кроме того, недостаточность штатной численности государственных экспертов вынуждает правоохранительные органы при проведении дознания и предварительного следствия или судебного разбирательства назначать экспертизы негосударственным экспертам на договорной основе, и именно на эти цели из бюджета уже затрачено 3,7 миллиарда рублей — это на оплату труда нештатных, негосударственных экспертов!
— Кроме того, уже говорили о сроках проведения экспертиз: именно загруженность штатных, государственных экспертов приводит к затягиванию сроков проведения экспертиз и, как следствие, к затягиванию сроков следствия. А что касается причин, по которым экспертиза может проводиться длительное время, то это связано не только с методологией проведения экспертиз: в целом в связи с соблюдением экспертных методик только 2 процента экспертиз проводилось длительное время, в остальных же случаях основная причина — это загруженность государственных экспертов…
— Все эти доводы позволяют нашей фракции с полным основанием поддержать законопроект.
— А что касается вопроса независимости экспертов от следователей, то правовые гарантии независимости в действующем законе уже заложены, они заложены в законопроекте, и, кроме того, у нас есть возможность ко второму чтению дополнительно усилить правовые гарантии независимости экспертов от следователей, для этого существуют все возможности».
Г.В. Минх:
— «Я тоже хотел бы немного прокомментировать аргументы против президентской инициативы, которые были высказаны Юрием Петровичем Синельщиковым. На самом деле, что касается якобы расширения, усиления и отката от демократических принципов, хочу ещё раз подчеркнуть: мы фактически не трогаем сложившуюся на основании указа президента и действующую на сегодняшний день систему — ни увеличения штатной численности, ни каких-либо других мероприятий, направленных на это, не предусматривается. Сейчас, как уже говорили, действуют 664 эксперта, и они каким-то образом наряду с имеющимися экспертными структурами и подразделениями выполняют довольно внушительный объём работы.
— Что касается независимости, Эрнест Абдулович очень чётко всё это описал. Действительно, помимо правовых, думаю, можно предусмотреть и какие-то организационные меры, повышающие независимость деятельности экспертных подразделений и структур в системе Следственного комитета.
— …прошу поддержать инициативу президента, нам думается, что никаких в этом плане опасений быть не должно, и ход обсуждения, мне кажется, чётко это показывает».
В.И.Пискарёв:
– «Сегодня уже существует система экспертных органов Следственного комитета, они проводят огромное количество экспертиз, основываясь на указе президента, который дал возможность эту работу проводить, на статье 105 Уголовно-процессуального кодекса, которая предусматривает участие эксперта и то, кто может быть экспертом, и статье 41 закона «О государственной судебно-экспертной деятельности...». Было проведено 176 тысяч экспертиз, и необходимо отметить, что с момента создания экспертных подразделений в Следственном комитете в российской судебной практике не имеется случаев отводов экспертов и признания недопустимыми доказательствами выполненных ими заключений по причине их ведомственной принадлежности. Это первое.
— А второе — это то, что ещё и Конституционный Суд в своих трёх решениях также зафиксировал, что принадлежность эксперта к правоохранительному ведомству не должна рассматриваться как заведомо необъективная и зависимая судебно-экспертная деятельность, то есть у нас гарантия независимости прописана. Действительно, эксперт независим, он несёт ответственность за своё решение, за своё заключение.
— …Мы лишь наделяем экспертов, которые работают в Следственном комитете, статусом, равным статусу экспертов, которые работают в таких структурах, как МВД, ФСБ, ФТС, не должно быть разницы в правовом положении эксперта СКР и эксперта МВД.
Коллеги, все замечания, дополнения к законопроекту, если таковые появятся, мы можем рассмотреть при подготовке законопроекта ко второму чтению. Прошу вас поддержать законодательную инициативу президента и проголосовать за неё в первом чтении».
***
Принятый закон получил поддержку и на заседании 463 от 23 июля 2019 года в Совете Федерации
(http://council.gov.ru/activity/meetings/106679/transcript/), где его докладывал А.А.Клишас, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, который сказал:
«…Этот вопрос был достаточно сложным, даже болезненным для правоохранительной системы. Данный закон, который вам предлагается, относит Следственный комитет Российской Федерации к федеральным государственным органам, в которых могут создаваться государственные судебно-экспертные учреждения по примеру тех, которые сейчас существуют при Министерстве юстиции (Российский федеральный центр судебной экспертизы) и при Министерстве внутренних дел (Экспертно-криминалистический центр). Эти учреждения создаются в целях организации и производства судебной экспертизы, назначенной в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации.
Уважаемые коллеги! Мы обсуждали те сложности, которые возникают в связи с тем, что экспертные подразделения находились непосредственно в штате Следственного комитета. И, я знаю, у нас были достаточно содержательные и порой напряженные дискуссии на эту тему с представителями Генеральной прокуратуры. И Валентина Ивановна давала поручение по итогам нашей общей встречи с Юрием Яковлевичем Чайкой. Президентом был внесен проект соответствующего закона в Государственную Думу, но Генеральная прокуратура, ряд юристов, которые специализируются в этой области, все-таки обратили внимание, что необходимо выделение этих подразделений в самостоятельные структурные подразделения.
И по итогам работы межведомственной группы, в которой принимали участие представители и Генеральной прокуратуры, и Следственного комитета, я от Совета Федерации, коллега Крашенинников от Государственной Думы, мы пришли к этому компромиссу, и президент изменил уже внесенный проект закона. Он внес проект другого закона, того, который сегодня уже предлагается вашему вниманию.
Итак, в Следственном комитете такие учреждения должны быть созданы не позднее 1 января 2022 года. Это все-таки предполагает достаточно большие организационные и финансовые мероприятия. До момента создания учреждений производство судебных экспертиз будут осуществлять действующие экспертные подразделения Следственного комитета. Теперь это право уже прямо закреплено в законе, потому что (возможно, вы знаете) прокуратура оспаривала даже право на проведение такого рода экспертиз сотрудниками Следственного комитета.
И важное уточнение: судебно-экспертные учреждения Следственного комитета будут действовать независимо от следственных органов Следственного комитета. Сотрудники и руководители судебно-экспертных учреждений Следственного комитета не могут быть наделены полномочиями следователей и руководителей следственных органов Следственного комитета Российской Федерации».
Анализ и оценка сказанного в ГД и СФ.
Упомянутые должностные лицаЕ.А.Борисенко и Г.В.Минх, указанные докладчиками законопроектов в ГД, а также А.А.Клишас, докладчик принятого закона в СФ, будучи юристами, не специализировались в уголовном праве и процессе, никогда не были правоприменителями норм уголовного процесса, поскольку не являлись оперативными работниками, следователями, прокурорами, судьями, или адвокатами1.
Эти обстоятельства во многом и объясняют, на мой взгляд, совершенно провальную их аргументацию о необходимости законодательных изменений.
Начну с того, что при нередко бывающей шаткой доказательственной базе по уголовным делам в виде показаний допрошенных лиц, иных добытых следователем доказательств, заключения экспертиз являются теми «палочками-выручалочками», которые позволяют стороне обвинения оценить всю совокупность доказательств, как достаточную для доведения уголовных дел до суда, где благополучно рассмотрение оканчивается вынесением обвинительного приговора.
Еще в период существования Союза ССР власть знала о значении этого вида доказательств, равно как была осведомлена и о недопустимости доверять ведомственным потугам на создание доказательств обвинения ведомственными же криминалистическими подразделениями, а потому на уровне целого Пленума Верховного Суда СССР разъясняла:
«… в силу ст. 78 УПК РСФСР и соответствующих статей УПК других союзных республик экспертное исследование может быть проведено только лицом, назначенным в качестве эксперта в установленном законом порядке, указать судам, что имеющиеся в деле акты либо справки о результатах ведомственного исследования какого-либо обстоятельства, в том числе и ведомственные заключения, именуемые экспертизой (о качестве товара, недостаче товарно — материальных ценностей и т.п.), хотя бы и полученные по запросу органов следствия или суда, не могут рассматриваться как заключение эксперта и служить основанием к отказу в проведении судебной экспертизы» (п.2 Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 16 марта 1971 года №1 «О судебной экспертизе по уголовным делам»).
Несмотря на то, что со времени принятия указанного Постановления прошло около полувека, и практикующим юристам очень хорошо известна правовая природа различий между ведомственными исследованиями и судебными экспертизами, о ней, что очевидно, совершенно неизвестно указанным докладчикам, что также следует из текста стенограммы выступления А.А.Клишасана указанном заседании СФ. И тем не менее, эти несведущие люди, защищали законопроект, в котором, получается, НИЧЕГО не понимали.
В частности, С.В. Калашниковым, первым заместителем председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике, А.А.Клишасузадано два вопроса. Первый.
— «Вы сослались на опыт МВД. Скажите, Вы проводите «водораздел» между экспертно-криминалистическими исследованиями и судебной экспертизой? Это первый вопрос. И второй. Объясните, пожалуйста, как можно быть независимым, находясь в структуре, жесткой структуре, определенного учреждения».
А.А. Клишас. «Это разделение провожу не я, а его проводит закон.
Судебная экспертиза – это та экспертиза, которая назначается судом. Что касается криминалистической экспертизы, есть специальное определение и в законе, и в криминалистической науке. Мы в законе отказались от конкретного перечня видов экспертиз (с этой позицией и президент, и Следственный комитет, и Генеральная прокуратура согласились). Поэтому в данном случае все экспертизы, которые будут назначены судом для целей уголовного судопроизводства, будут производиться в указанном учреждении Следственного комитета.
Председательствующий. По поводу независимости все-таки скажите еще раз.
А.А.Клишас. А независимость будет обеспечена ровно в той же мере, в какой обеспечивается независимость в действующих сегодня учреждениях, существующих при Минюсте и при Министерстве внутренних дел. Да, они будут независимыми».
Хотел было оставить без комментариев сказанное, поскольку для специалистов и так очевидно, что человек не в теме от слова ВООБЩЕ, но буквально пунктирно отмечу, что назначение экспертизы осуществляет не только суд, но и следователь (ст. 195 УПК РФ), что есть ст. 70 УПК РФ, и что Председатель СК, в отличие, например, от Министра внутренних дел, Министра юстиции, является руководителем следственного органа (ч.5 ст. 39 УПК РФ).
Последнему и подчиняются по службе все эксперты СК, что является абсолютно недопустимым в соответствии со ст. 70 УПК РФ, и потому утверждения А.А.Клишаса: «Да, они будут независимыми», и что «…судебно-экспертные учреждения Следственного комитета будут действовать независимо от следственных органов Следственного комитета. Сотрудники и руководители судебно-экспертных учреждений Следственного комитета не могут быть наделены полномочиями следователей и руководителей следственных органов Следственного комитета Российской Федерации», проистекают, по меньшей мере, из его полной и удивительной для должностного лица такого ранга, правовой неосведомленности.
Не ответил А.А.Клишаси на вопрос о «водоразделе», хотя юристам, которые в теме, ответ известен по меньшей мере пятьдесят лет. В том числе из упомянутого Постановления Пленума Верховного Суда СССР.
***
Не было тогда, 50 лет назад, законодательного определения понятия «коррупция», которая сейчас означает и злоупотребление служебным положением (ст.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»), но было понятие указанного злоупотребления, и высшая власть четко понимала, где это злоупотребление реально возможно, а потому и вынуждена была профилактировать эти ведомственные правонарушения указанными разъяснениями Пленума Верховного Суда СССР.
В наше время суть ведомственных устремлений нисколько не изменилась, однако право проведения экспертиз по уголовным делам предоставлено СК.
В частности, Основными задачами Следственного комитета являются, среди прочих, обеспечение законности при производстве судебной экспертизы, организация и производство в судебно-экспертном учреждении Следственного комитета судебных экспертиз (ст.1 Федерального закона от 28.12.2010 № 403-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «О Следственном комитете Российской Федерации»).
В ст.45 этого же федерального закона, которая называется «Переходные положения», указано, что «до создания в системе Следственного комитета судебно-экспертного учреждения, но не позднее чем до 1 января 2022 года организацию и производство судебных экспертиз, назначенных в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации, в Следственном комитете могут осуществлять экспертные подразделения Следственного комитета».
В этой связи не понятна позиция председателя Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Пискарёв В. И., пояснившего, что «комитет по безопасности и противодействию коррупции, поддержал данную инициативу».
Утверждению этого должностного лица о наличии трех решений Конституционного Суда, согласно которым, якобы, «принадлежность эксперта к правоохранительному ведомству не должна рассматриваться как заведомо необъективная и зависимая судебно-экспертная деятельность», не соответствует фактическим обстоятельствам, поскольку при голосовании не учтено и не опровергнуто утверждение депутата Синельщикова Ю. П.
Последний, о чем уже сказано, утверждал, что Генеральный прокурор Ю.Я.Чайка, комментируя решение Конституционного Суда о праве проводить экспертизы, заявил, что «изложенный в нём правовой смысл не свидетельствует о наличии такого права и не касается вопросов создания и обеспечения экспертных подразделений Следственного комитета».
Можно ли было при таких данных Государственной Думе оперировать пояснениями депутата Валеева Э.А., который заявил, что
— «официальный представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации на заседании Комитета по безопасности и противодействию коррупции президентский законопроект поддержал и выразил официальную позицию Генеральной прокуратуры»?
Очевидно, что нет, поскольку при таких существенных противоречиях действительная позиция Генерального прокурора была не ясна, и для того, чтобы ее установить, последнего надо было бы в ГД пригласить в соответствии с п.3.1. ст.38 Регламента Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
Это не произошло несмотря на то, что имел место вопрос, носящий чрезвычайный характер (обязательное условие приглашения Генпрокурора в соответствии с указанной нормой Регламента). Чрезвычайность обуславливалась тем, что речь шла о практически всех уголовных делах, по которым проводились ведомственные экспертизы, а также о праве прокурора признать заключение экспертизы недопустимым доказательством в виду получения с нарушением требований УПК (ст.ст.75, 88 УПК РФ).
При этом, мало того, что сам Генеральный прокурор имел такое мнение о ведомственных экспертизах, так он своим приказом вправе был обязать всех подчиненных прокуроров признавать эти доказательства недопустимыми (ст. 17 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 06.02.2020) «О прокуратуре Российской Федерации»).
По этим мотивам чрезвычайности должен был бы быть приглашен Генпрокурор и в СФ (ст.71 Регламента Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации), однако этого не произошло. Вместе с тем, и в данном случае в СФ имелась информация о противоречии неизвестного представителя Генпрокуратуры позиции Генпрокурора не представлять СК права производства судебных экспертиз, а образовать для этого отдельный, независимый орган.
Напоминаю, А.А.Клишас говорил дословно следующее:
«…Мы обсуждали те сложности, которые возникают в связи с тем, что экспертные подразделения находились непосредственно в штате Следственного комитета. И, я знаю, у нас были достаточно содержательные и порой напряженные дискуссии на эту тему с представителями Генеральной прокуратуры. И Валентина Ивановна давала поручение по итогам нашей общей встречи с Юрием Яковлевичем Чайкой. Президентом был внесен проект соответствующего закона в Государственную Думу, но Генеральная прокуратура, ряд юристов, которые специализируются в этой области, все-таки обратили внимание, что необходимо выделение этих подразделений в самостоятельные структурные подразделения.
И по итогам работы межведомственной группы, в которой принимали участие представители и Генеральной прокуратуры, и Следственного комитета, я от Совета Федерации, коллега Крашенинников от Государственной Думы, мы пришли к этому компромиссу, и президент изменил уже внесенный проект закона. Он внес проект другого закона, того, который сегодня уже предлагается вашему вниманию».
Вот и надо было бы не только членам СФ, но и всей стране, установить, кто же это из «представителей Генеральной прокуратуры», вопреки воле Генпрокурора РФ, «пришел к компромиссу», и почему…
***
Могут здесь возразить: да, Генпрокурора не пригласили, его позицию проигнорировали, ну и что? Федеральный закон все равно принят, СК наделен правом производства судебных экспертиз по уголовным делам в соответствии с упомянутым Федеральным законом от 22 июля 2019 года № 224-ФЗ, и его все прокуроры должны исполнять.
Между тем имеется ряд существенных обстоятельств, которые этой позиции противоречат.
Законопроект № 663034-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» и Федеральный закон «О следственном комитете Российской Федерации» не предусматривал внесение изменений в УПК.
Принятый закон №224-ФЗ нарушает положения ст. 70 УПК РФ, в которой установлено, что эксперт не вправе принимать участие в производстве по уголовному делу, если он находился или находится в служебной или иной зависимости от сторон или их представителей, а эксперты Следственного комитета, как правильно отметил депутат Синельщиков Ю. П.,«находятся в административном подчинении у руководителей следственного органа». Этот факт, как указал последний депутат, «вызывал и будет вызывать вопросы в части объективности и независимости заключений этих экспертов».
Не устраняется это нарушение уголовно-процессуального закона и дополнением статьи 5 Федерального закона «О следственном комитете Российской Федерации» частью 1.1. следующего содержания: «Судебно-экспертное учреждение Следственного комитета действует независимо от следственных органов Следственного комитета. Сотрудники и руководители судебно-экспертного учреждения Следственного комитета не могут быть наделены полномочиями следователей и руководителей следственных органов Следственного комитета».
Да, они-то не наделены, но дело в том, что ими всеми руководит руководитель следственного органа, которым в соответствии со ст. 39 УПК РФ является… Председатель Следственного комитета Российской Федерации, который в отношении всех обладает дисциплинарной властью, властью принять на службу, уволить, привлечь к уголовной ответственности.
Не обеспечивает в таких условиях объективность эксперта и предупреждение его об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения. Об этой гарантии говорил депутатам Пискарёв В. И., который утверждал:
«на сегодня существует система обеспечения качества экспертного исследования, по крайней мере его беспристрастности, — в Уголовном кодексе предусматривается уголовная ответственность за заведомо ложное заключение, — и поэтому перед тем, как приступить к производству экспертизы, эксперт предупреждается следователем о том, что, если заключение будет заведомо ложным, он понесёт уголовную ответственность, причём ответственность весьма и весьма серьёзную».
Этот же депутат Пискарёв В. И., напомню, говорил: «у нас гарантия независимости прописана. Действительно, эксперт независим, он несёт ответственность за своё решение, за своё заключение».
При этом юрист такого ранга мог только умышленно скрыть от депутатов то обстоятельство, что согласно ст. 151 УПК РФ предварительное следствие по уголовным делам о преступлениях, совершенных должностными лицами Следственного комитета Российской Федерации, производится следователями Следственного комитета Российской Федерации.
Говоря иначе, если гипотетически предположить, что руководство СК заинтересовано в результатах экспертизы, эксперт выполнил незаконные указания, но был разоблачен, вопрос о его уголовной ответственности будет решаться все тем же… руководством СК.
Таким образом, никакой независимости экспертов в системе органов СК нет, как нет и гарантий возникновения такой независимости, указанные новеллы в закон привнесены в результате прямого обмана депутатов, передергивания фактов, неполноты доведенной заинтересованными лицами до депутатов информации.
Не свидетельствует о том, что с независимостью таких экспертов все «нормально» и ссылка Пискарёва В. И. на то, что «с момента создания экспертных подразделений в Следственном комитете в российской судебной практике не имеется случаев отводов экспертов и признания недопустимыми доказательствами выполненных ими заключений по причине их ведомственной принадлежности».
Если это и так, то свидетельствует лишь о ненадлежащем качестве правоприменителей, но отнюдь не об отсутствии законных оснований для отвода и признания доказательств недопустимыми. Довести до коллег действительное положение дел и наши возможности в данной ситуации – одна из задач публикации.
***
Описываемый случай – это когда законодательные новеллы с экспертизами в СК, не выдерживают конкуренции с нормами УПК РФ, которые являются приоритетными в соответствии со ст.4 Федерального закона от 18 декабря 2001 года № 177-ФЗ «О введении в действие Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».
Согласно указанной норме, «действующие на территории Российской Федерации федеральные законы и иные нормативные правовые акты, связанные с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, подлежат приведению в соответствие с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации.
Впредь до приведения в соответствие с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации указанные федеральные законы и иные нормативные правовые акты применяются в части, не противоречащей Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации».
Приведенные новеллы в упомянутых федеральных законах о производстве экспертиз по уголовным делам экспертами органов системы СК России противоречат по указанным выше мотивам требованиям ст. 70 УПК РФ о независимости экспертов.
В этой связи у защитников есть, как полагаю, законные основания для отвода таких экспертов, а если защитник подключился к участию в деле уже после производства экспертизы – законные основания для обращения к следователю и прокурору по поводу признания заключений экспертиз недопустимыми доказательствами.
Решения в пользу защиты в этой связи возможны, как считаю, и со стороны суда, поскольку согласно ч.2 ст. 7 УПК РФ суд, установив в ходе производства по уголовному делу несоответствие федерального закона или иного нормативного правового акта УПК, принимает решение в соответствии с УПК. В данном случае такое несоответствие очевидно, его надо лишь аргументированно довести до суда. Настоящая публикация, как полагаю, и может послужить этой цели. Перед публикацией показывал ее коллеге-адвокату, его мнение – приобщать к ходатайству (жалобе) защитника на следствии или в суде настоящую статью, с конспективным изложением сути в процессуальном документе.
Надеюсь, настоящая публикация поможет коллегам в подготовке соответствующих процессуальных документов. Мотивировочную часть при скрупулезных ссылках на соответствующие нормы, с таким прицелом и писал.
С учетом того, что новый Генпрокурор выходец из СК, не думаю, что позиция прежнего Генпрокурора будет востребована и реализована так, как желал бы это сделать последний. В этой связи путь наш, видимо, будет тернист, но правда на стороне закона, а не отдельных лиц, преследующих какие-то не связанные с УПК цели по наделению СК правом производства экспертиз по уголовным делам.
***
Доводы депутатов-участников обсуждения законопроекта относительно необходимости наделения СК полномочиями по производству экспертиз в виду каких-то организационных мотивов (необходимости сокращения сроков производства экспертиз и т.д.), считаю не стоящими внимания, поскольку при незаконном производстве экспертиз силами СК, рассуждать о том, что там они были бы проведены, например, качественно и в меньшие сроки — откровенная несуразность.
Я бы прислушался в этой связи к бывшему заместителю прокурора г.Москвы Синельщикову Ю. П., который сказал, напомню, следующее: «…давайте мы эти финансы, эти средства, которые идут на Следственный комитет, на их экспертов, вот эти государственные средства, передадим в существующие экспертные учреждения или в какой-то единый экспертный орган, который будет создан у нас в стране, — и всё решится самой собой».
***
Обещал о мотивах. Если исходить из того, что язык дан нам для того, чтобы скрывать действительные мысли (а в ГД и СФ, как это видно, сказанное особенно актуально), то сокрытым оказался главный, но тщательно маскируемый мотив принятия закона с указанными полномочиями СК – сохранение за стороной обвинения возможности создания «объективных» доказательств обвинения по уголовным делам, расследуемым следователями этого государственного органа. Если говорить о коррупционной составляющей, то она очевидна: какое хочется правоохранителям из СК РФ, такое заключение эксперта и будет получено.
И уж очень даже последнее. Совсем немного о политике. Что само напрашивается на изложение в результате даже самого поверхностного анализа. Первое. Как утверждал ранее, так стою на своем и сейчас: нет данных, что Президент РФ осведомлен об этих «маклях», но есть сведения, что кто-то пытается за его спиной обнулить его рейтинг ко дню, когда пойдет борьба преемников за этот пост (действующий Президент, дай Бог ему здоровья, не вечен, к сожалению). И борьба, как это видно уже сейчас, будет происходить под лозунгом в отношении сделанного с приставкой «НЕ» в слове «неправильно». И совсем не факт, что при этом пропихиваться будет тот, который будет полезен России, а не «забугорникам».
Если бы речь шла о единичных фактах — это одно. Ну, например, хочет Председатель СК себе таких полномочий, хоть тресни, пролоббировал, получил, назло Генпрокурору, с которым «на ножах». Это плохо, конечно, но по-человечески понятно.
А если дефицит совести, или, как ранее говорили, — «без Бога в душе», а если, к тому же, система разнонаправленных деяний, и все во вред Президенту РФ, стране и ее людям? Здесь тебе и пресловутая пенсионная реформа, и ничтожные выплаты медработникам-борцам с короновирусом, вопреки указанию Президента, и то, о чем рассуждаем в отношении экспертиз и много еще из того, о чем постоянно говорит, например, известный политолог С.А.Михеев.
Тут, как полагаю, надо бы задуматься не просто о политике, а о юридической квалификации содеянного лицами из окружения высших представителей власти. Вот, хотел немного о политике, а она, злосчастная, все равно тянет в область, которая регулируется уголовным и уголовно-процессуальным законом…
* * * * *
1Биографические данные указанных лиц смотрите по адресам: http://www.tadviser.ru/index.php/Персона: Борисенко_Елена_Адольфовна
Ваши голоса очень важны и позволяют выявлять действительно полезные материалы, интересные широкому кругу профессионалов. При этом бесполезные или откровенно рекламные тексты будут скрываться от посетителей и поисковых систем (Яндекс, Google и т.п.).
Уважаемый Олег Вениаминович, да тема большая, ответственная и сложная. Моё мнение состоит в том, что пусть бы во всех структурах и на всех этапах применялись специальные познания специалистов — через Заключение и Расчёт специалиста — это к экономическим делам. Было бы больше толка и оперативности. Заключение эксперта важно и необходимо на заключительной стадии следствия, и в суде. Чтобы была вынесена экспертная оценка. Спасибо за полный обзор!
Моё мнение состоит в том, что пусть бы во всех структурах и на всех этапах применялись специальные познания специалистов — через Заключение и Расчёт специалиста — это к экономическим делам. Было бы больше толка и оперативности. Уважаемая Татьяна Алексеевна, беда в том, что на основании этих «оперативных» заключений, правохоронители годами держат людей под стражей, до суда.
Кроме того, практика сложилась так, что правохоронитель в черном не может вынести оправдательный приговор, даже если в суде будет получено заключение эксперта, противоречащее первоначальному «оперативному».
Это же скандал — обвиняемый под стражей годами сидел, получается, что правохоронители от следствия и прокуратуры должны быть наказаны!
А за такие вещи, по нынешней традиции, наказывать не принято.
Поэтому, Ваше предложение ни к чему хорошему не приведёт, поскольку система нацелена на сохранение, любой ценой, существующего status quo, когда правохоронителя могут наказать только за какие-то послабления и действия в пользу стороны защиты, но не наоборот.
Уважаемый Андрей Борисович, да я во всем согласна с Вами. Только уточню, что под Заключением в данном случае заложено понятие Заключение Специалиста. Таких заключений может (или должно) быть несколько по одному делу на разных его этапах. Особенно считаю важным его наличие на ранних этапах, когда требуется оценить правдивость показаний лиц — на соответствие фактическому содержанию документов и на соответствие нормативам, дать оценку имеющихся документов, и определить объем необходимых. (И ведь было так в начале 2000-х годов);
↓ Читать полностью ↓
Своевременные суждения квалифицированного специалиста помогли бы точнее выстраивать версии и ускорить следствие, а также дать дополнительные зацепки для линии защиты (по моему непрофессиональному мнению — я не юрист). Заключение специалиста (суждение или расчет) без особых процессуальных последствий может меняться с появлением новых вводных данных (новых документов и установленных обстоятельств).
А экспертное заключение необходимо на заключительных стадиях предварительного следствия, а также в суде. И конечно тут должны быть задействованы независимые эксперты-профессионалы со специальной подготовкой.
По ряду уголовных дел для себя отмечала, что содержание уже имевшихся заключений «экспертов» по сути таковым не являлось, так как это либо только расчеты, либо набор выдержек из документов при полном отсутствии «исследования» как такового.
Но почему то процессуальное значение таких «неправильных по форме и по сути заключений „экспертов“ защитой не оспаривалось, при том что если на начальной стадии следствия эта ошибочность еще не проявляла существенности, то в суде принимало другой оборот - с влиянием на приговор.
например: было сообщение эксперта ЭКЦ о невозможности дачи заключения в связи в недостаточностью документов, при том что исследование всех имеющихся документов было проведено, и в выводной части сформулирован был именно вывод по вопросу. Затем точно по этим же документам поручили экспертизу негосударственному, и она сделала именно „расчет“, но под названием „Заключение эксперта“. Соответственно в суде сообщение о невозможности во внимание не было принято, а расчет — неправильный по сути, и ужасный по существу, и не соответствующий процессуальному пониманию экспертного заключения — в основу приговора.
Уважаемая Татьяна Алексеевна, Ваше предложение было бы очень полезным, НО только при условии действительного равенства сторон, поскольку сейчас сторона обвинения может набивать в дело любые, даже самые бредовые бумажки, которые априори будут расцениваться всеми правохоронителями как исключительно обоснованные и единственно верные, а любые, даже самые научные и объективные заключения со стороны защиты, как «способ уйти от ответственности».
Не ту страну назвали Гондурасом! ©
Уважаемый Иван Николаевич, да, да, и еще раз соглашусь… факты подтверждают; И все же вопреки всему, либо наоборот - благодаря Праворуб — сообществу, существуют ВАШИ ПОБЕДЫ, и нет ощущения полной безнадеги!
Уважаемая Татьяна Алексеевна, я Вас поддержал лайком за внимание к публикации, а в остальном коллеги абсолютно правы. Ещё раз Вас благодарю.
Уважаемый Олег Вениаминович,
В.И.Пискарёв, председатель Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции.А заодно — бывший заместитель председателя СК России. И даже первый заместитель. Как говорил покойный Сергей Доренко: «Казалось бы, при чём здесь Лужков?».
Насколько мне известно, организационно-штатные мероприятия по выводу «экспертов» из штата региональных подразделений СК уже начаты.
Спасибо, уважаемый Роман Павлович, за дополнительные краски к «картине маслом»:)))
Ваши голоса очень важны и позволяют выявлять действительно полезные материалы, интересные широкому кругу профессионалов. При этом бесполезные или откровенно рекламные тексты будут скрываться от посетителей и поисковых систем (Яндекс, Google и т.п.).
● Арбитраж. Банкротство. ФАС. Юридическое сопровождение вашего бизнеса.
● Юрист по ВЭД. Споры с ФТС. Международное право.
В рамках адвокатской деятельности оказываю юр. помощь по многим вопросам.
Являюсь также профессиональным медиатором.
Дорого, но зато качественно. Все встречи и консультации, в т.ч. дистанционные только по предварительной записи.
Защита по сложным уголовным экономическим делам.
Борьба с фальсификациями и незаконными методами расследования. Опыт, надёжность, добросовестность!

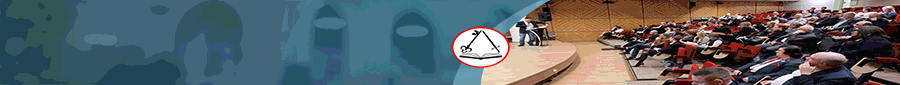

Модератору — почему-то текст напечатан не полностью.
Уважаемый Олег Вениаминович, макисмальный объем текста лимитирован. Имеет смысл разбивать большие публикации на несколько частей.
Спасибо, уважаемый Александр Витальевич, я понял. Дополняю текст тем, что хотел, в комментариях.
↓ Читать полностью ↓
«В данном случае такое несоответствие очевидно, его надо лишь аргументированно довести до суда. Настоящая публикация, как полагаю, и может послужить этой цели. Перед публикацией показывал ее коллеге-адвокату, его мнение – приобщать к ходатайству (жалобе) защитника на следствии или в суде настоящую статью, с конспективным изложением сути в процессуальном документе.
Надеюсь, настоящая публикация поможет коллегам в подготовке соответствующих процессуальных документов. Мотивировочную часть при скрупулезных ссылках на соответствующие нормы, с таким прицелом и писал.
С учетом того, что новый Генпрокурор выходец из СК, не думаю, что позиция прежнего Генпрокурора будет востребована и реализована так, как желал бы это сделать последний. В этой связи путь наш, видимо, будет тернист, но правда на стороне закона, а не отдельных лиц, преследующих какие-то не связанные с УПК цели по наделению СК правом производства экспертиз по уголовным делам.
***
Доводы депутатов-участников обсуждения законопроекта относительно необходимости наделения СК полномочиями по производству экспертиз в виду каких-то организационных мотивов (необходимости сокращения сроков производства экспертиз и т.д.), считаю не стоящими внимания, поскольку при незаконном производстве экспертиз силами СК, рассуждать о том, что там они были бы проведены, например, качественно и в меньшие сроки — откровенная несуразность. Я бы прислушался в этой связи к бывшему заместителю прокурора г.Москвы Синельщикову Ю. П., который сказал, напомню, следующее: «…давайте мы эти финансы, эти средства, которые идут на Следственный комитет, на их экспертов, вот эти государственные средства, передадим в существующие экспертные учреждения или в какой-то единый экспертный орган, который будет создан у нас в стране, — и всё решится самой собой».
***
Обещал о мотивах. Если исходить из того, что язык дан нам для сокрытия действительных мыслей (а в ГД и СФ, как это видно, сказанное особенно актуально), то сокрытым оказался, похоже, главный, но тщательно маскируемый мотив принятия закона с указанными полномочиями СК – стремление сохранить за стороной обвинения возможности создания «объективных» доказательств обвинения по уголовным делам, расследуемым следователями этого государственного органа. Если говорить о коррупционной составляющей, то она очевидна: какое хочется правоохранителям из СК РФ, такое заключение эксперта и будет получено.
Совсем немного о политике. Что само напрашивается на изложение в результате даже самого поверхностного анализа. Первое. Как утверждал ранее, так стою на своем и сейчас: нет данных, что Президент РФ осведомлен об этих несуразностях, но есть сведения, что кто-то пытается за его спиной обнулить его рейтинг ко дню, когда пойдет борьба преемников за этот пост (действующий Президент, дай Бог ему здоровья, не вечен, к сожалению). И борьба, как это видно уже сейчас, будет происходить под лозунгом в отношении сделанного с приставкой «НЕ» во фразе «все сделано неправильно». И совсем не факт, что при этом в Президенты будет протаскиваться субъект, полезный России, а не «забугорникам».
Если бы речь шла о единичных фактах — это одно. Ну, например, хочет Председатель СК себе таких полномочий, хоть тресни, пролоббировал, получил, назло Генпрокурору, с которым «на ножах». Это плохо, конечно, но по-человечески понятно.
А если дефицит совести, или, как ранее говорили, — «без Бога в душе», а если, к тому же, прослеживается система разнонаправленных деяний, и все во вред Президенту РФ, стране и ее людям? Здесь тебе и пресловутая пенсионная реформа, и ничтожные выплаты медработникам-борцам с короновирусом, вопреки указанию Президента, и то, о чем рассуждаем в отношении экспертиз и много еще из того, о чем постоянно говорит, например, известный политолог С.А.Михеев.
Тут, как полагаю, надо бы задуматься не просто о политике, а о юридической квалификации содеянного лицами из окружения высших представителей власти. Вот, хотел немного о политике, а она, злосчастная, все равно тянет в область, которая регулируется уголовным и уголовно-процессуальным законом…».