
Надо идти к адвокату. А страшно. Он ведь вопросы задавать будет. Скажет: «А ну-ка говори, как на самом деле было. Давай-давай… как перед врачом… всю правду. Как на исповеди». А что потом? Да знаем мы про их адвокатскую тайну! Они ж там все с судьями, прокурорами, следователями «вась-вась», рука руку моет. Никому верить нельзя.
Все описанное ниже — исключительно моя позиция, мое отношение, мои методы. Допускаю наличие другой точки зрения. Объясню, почему у меня так.
Мне исповедь подзащитного не нужна. Могу годами работать по делу, ни разу не спросив, «как там на самом деле было». Не надо мне это. Ответ на этот вопрос может удовлетворить любопытство адвоката — досужее любопытство, никак (или почти никак) не помогающее в работе. Для этого надо объяснить, чем занимается адвокат в уголовном деле, да и все остальные (следователи, судьи, прокуроры).
Что выясняют в уголовном деле?
Уверен, многие ответят: совершил ли обвиняемый преступление. Ответ неверный, правильнее сказать — неточный. Но требуемая в данном случае точность приводит к пониманию сути. Итак, правильный ответ: доказано ли, что обвиняемый совершил преступление. Именно на этот вопрос отвечает судья, когда по итогу рассмотрения дела запирается в совещательной комнате, чтобы писать там приговор.
А разница в чем? В том, что судье не важно, «как там на самом деле было». Важно, что из того, что на самом деле было, доказано. Классический всем известный пример — осуждение Аль Капоне за неуплату налогов. На самом деле он, возможно, и был главой мафии, но доказана только неуплата налогов. Настоящий суд — он на небесах. А наш земной суд — это некий его суррогат, более-менее способный поддерживать какой-то порядок. Мы этим вполне довольствуемся и не берем на себя лишнего.
Кто доказывает?
Бремя доказывания в уголовном процессе возложено на сторону обвинения (ст. 14 УПК РФ). Это они (следователь, прокурор) обязаны доказать виновность моего подзащитного. И если они это сделать не смогли, он должен быть оправдан. Он не обязан доказывать свою невиновность. Вообще ничего не должен доказывать. Молча может наблюдать за стараниями стороны обвинения.
Что из этого следует? Меня интересует, что скажет (покажет, докажет) сторона обвинения. Помните, как в «Красной жаре» со Шварценеггером (на ломаном русском): «Какие ваши доказательства?!» И мне совсем не интересно, что скажет мой подзащитный. Или, правильнее, мне интересно это только во вторую очередь. И только если ему действительно есть, что сказать. А если сказать нечего, то лучше помолчать в соответствии со статьей 51 Конституции РФ. А я в это время займусь собственно работой, суть которой — в статье Праворуб: Доказать невиновность или не дать доказать виновность?
Конечно, если у моего подзащитного есть какие-то сведения (доказательства, свидетели), которые могут нам в защите помочь, я буду ему за это благодарен. И конечно же использую их в работе. Большего мне не надо. И такое полезное взаимодействие всегда происходит, когда с подзащитным в процессе работы устанавливаются доверительные отношения в том числе благодаря тому, что лишних вопросов я ему не задаю.
И, конечно, самое глупое для подзащитного — врать адвокату, вводить его в заблуждение, пускать по ложному следу. Меня от такого Бог миловал. Платить адвокату деньги, после чего на эти деньги водить его за нос — это так себе… Но стоит задуматься, не потому ли это произошло, что адвокат заставлял подзащитного исповедоваться?
*БАМ — (букварь адвоката Матвеева) — цикл статей для тех, кто с преступниками и полицией, судьями, прокурорами и адвокатами существовал в параллельных мирах, и так должно было быть всегда, но… однажды все изменилось. Простые ответы на простые вопросы, мешающие спать (присылайте их по адресу: advokatmatveev@yandex.ru — они лягут в основу следующих публикаций).
Ваши голоса очень важны и позволяют выявлять действительно полезные материалы, интересные широкому кругу профессионалов. При этом бесполезные или откровенно рекламные тексты будут скрываться от посетителей и поисковых систем (Яндекс, Google и т.п.).
Уважаемый Олег Витальевич, совершенно с Вами согласен и сам всегда выясняю у подзащитных не «как всё было на самом деле», а какие доказательства уже имеются в деле, и какие ещё могут появиться — это намного продуктивнее.
и какие ещё могут появитьсяУважаемый Иван Николаевич, очень точная постановка вопроса(Y) Нам не надо знать, «как там на самом деле было», но пожалуйста предупредите нас, чем оппоненты нас смогут удивить:)
Исповедь, ну если при крайней необходимости, поскольку это может иметь значение для формирования позиции, чтобы избежать сюрпризов.
А так, уже не помню когда мне были нужны такие детали.
По этому случаю как-то Генри Резник рассказал очень весёлую байку более молодому адвокатскому сообществу.
Уважаемый Олег Витальевич, признавайтесь, что эту байку знаете и она навела Вас на данное эссе ))
Уважаемый Вадим Иванович, байку не помню. Может, я смысл ее впитал, а сюжет забыл. Расскажите. Наверное, всем будет интересно.
Уважаемый Олег Витальевич, считаю, что исповедь нужна только при формировании алиби подзащитного. В других случаях только оспаривать доказательства обвинения.
Уважаемый Александр Валерьевич, да(handshake) Как-то так.
Уважаемый Олег Витальевич, прочитал, как всегда с интересом и пользой! В адвокатуре только 2 года, однако наблюдаю тенденцию в последнее время (может год, чуть менее): если судья знает, «как там на самом деле было», то и доказательства к этому он найдет, признает их относимыми, достоверными и допустимыми, полученными в соответствии с нормами УПК РФ, которые дополняют друг друга.......
Чаще стали закрываться глаза на очевидные пороки доказательств со стороны 1 и 2 инстанций. Уровень следствия объективно падает, за счет этого, полагаю, сохраняется паритет.
Уважаемый Дмитрий Александрович, все действительно очень печально. Поэтому, может быть, надо так?
Уважаемый Олег Витальевич, иногда сам удивляюсь, сколько разных идей в головах членов ФС РФ, как улучшить нашу жизнь, почему до сих пор никому из них в голову не пришло отменить, например, ст. 51 УПК РФ под предлогом оптимизации расходов бюджета. Согласен, что пока движемся в обратном направлении.
Уважаемый Дмитрий Александрович, думал то же самое (оптимизация, бюджет и т. п.). Ответ нашел легко — ст. 48 Конституции РФ:
1. Каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно.
2. Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении преступления имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента соответственно задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения.
Уважаемый Олег Витальевич, спасибо, успокоили, теперь до 2036 года точно работаем, как и прежде. А там как раз и 37-ой:)
Уважаемый Дмитрий Александрович, насчет принятия новой Конституции я не стал писать, чтобы не раздувать тему, а вообще ситуация обязывает. Так что не поручусь за стабильность еще на 10 лет:D
Уважаемый Олег Витальевич, несмотря на то, что Ваша статья рассчитана больше на доверителей (судя по рубрике БАМ), думаю она также будет полезна и адвокатам, так как содержит также ссылки и на другие Ваши статьи, в которых Вы делитесь эффективным способом защиты по уголовным делам
Уважаемый Валерий Юрьевич, спасибо(handshake)
Уважаемый Олег Витальевич, помню, если не ошибаюсь, Г.М. Резник рассказывал то ли анекдот, то ли случай из практики.
Суд оправдал подзащитного в убийстве.
Спустя время адвокат и подзащитный встречаются.
Адвокат спрашивает: а как было на самом деле? Ты его убивал?
Подзащитный: да, убил.
Адвокат: а почему мне об этом не сказал? Почему отрицал?
Подзащитный: а потому что Вы меня не так усердно и качественно бы защищали. (smoke)
Уважаемый Андрей Валерьевич, странная история.
Адвокат: а почему мне об этом не сказал? Почему отрицал?А что, должен был? Зачем? Этот адвокат привык, что ему все исповедуются? А он тоже всем рассказывает о своих грехах?
Этот адвокат явно с моей точкой зрения не согласен. Он, очевидно, пытает-таки своих доверителей, «как там было». И верит их рассказу. А потом расстраивается, когда узнает, что его обманули. Ну, странный...
Уважаемый Олег Витальевич, интересно, а есть такие коллеги, которые требуют: «ну ка рассказывай что там было на самом деле!».
Ну и тогда уж надо в офисе адвоката пыточную иметь.
Уважаемый Алексей Вячеславович, был уверен, что таких много, и они меня помидорами закидают:)
Уважаемый Олег Витальевич, ну не надо забывать еще один фактор — иногда подзащитные «апробируют» на своем адвокате свою версию произошедшего, полагая что, если адвокат поверит, то и следователь тоже поверит. Меня обычно «правда» не интересует. Поэтому никакой исповеди. «Что еще может попасть в материалы уголовного дела?» — это мой обычный вопрос и это мой «максимум».
Впрочем, чем больше мои подзащитные утверждают, что «ни в чем не расписывались, ни с чем не ознакомили», тем больше их подписей в документах. Начиная «заявлений не имею, с задержанием согласен» и вплоть до «вину признаю...».
Уважаемый Владимир Владимирович, люди разные. Умные не все:)
Уважаемый Олег Витальевич, и самые глупые считают себя самыми умными. Странный факт, но человек, который не понимает того, о чём вы ему говорите, считает тупым не себя, а вас.
Уважаемый Олег Витальевич, я бы отметил, что это редкость в последнее время. У нас даже с одним бывшим процессуальным противником мем появился — «Иванов (фамилия одного из жуликов) заплакал тихонько в уголке». Это как характеристика большинства применяемых схем при хищениях современными Бендерами.
Впрочем, чем больше мои подзащитные утверждают, что «ни в чем не расписывались, ни с чем не ознакомили», тем больше их подписей в документах. Начиная «заявлений не имею, с задержанием согласен» и вплоть до «вину признаю...».Уважаемый Владимир Владимирович,
Фантастика, я думал, что это только у меня так.
Уважаемый Владимир Владимирович,
«Что еще может попасть в материалы уголовного дела?»как в анекдоте про ребе, который думал что у него украли велосипед и вспомнил где оставил когда читал проповедь и упомянул заповедь — не прелюбодействуй.
Очень действенно — читаешь проповедь о том как бывает в таких то случаях, таких. И бац, оказывается забыл сказать\думал что не важно\не относится к делу\произошло на марсе и не со мной появляются в рассказе дополнительные обстоятельства.
Поэтому в лоб вопрос о том что еще может быть не задаю, я рассказываю что может произойти, если будет установлено то то и то то. Благо сейчас креатива очень мало.
Уважаемый Олег Витальевич,
полностью с Вами согласен! Мне, обычно, от доверителей не нужен рассказ как оно было на самом деле, а нужны факты, сведения о ранее данных показаниях, сведения об изъятых предметах, документах, наличие свидетелей и т.п.
Уважаемый Алексей Николаевич, ну да(handshake)
Уважаемый Олег Витальевич, для начала, стараюсь выяснить, как это было на самом деле, поскольку не знаю, что именно успело выяснить следствие, и какие сюрпризы нужно ждать от соучастников, если не удалось найти контакты с их адвокатами — а такие случаи, к сожалению, все чаще. А уж после этого начинаю искать способы, как можно обойти «острые углы» с минимальными потерями для клиента. Кстати, в моих соглашениях есть пункт, который вкратце звучит так: скрыл истину от адвоката? — сам дурак!
Уважаемый Андрей Юрьевич, по Вашему опыту — насколько часто этот пункт соблюдается/нарушается?
Уважаемый Олег Витальевич, когда клиент мне начинает врать — а это я вижу всегда, то, чтобы сэкономить свое время говорю просто и незатейливо: «Лично мне абсолютно безразлично, говорите вы мне правду или нет, поскольку то, с чем вы ко мне пришли — исключительно ваши проблемы. Соответственно, насколько они решаемы, зависит и от вас». Что до статистики — то, чтобы ее себе не портить, врущему, чаще всего, предлагается поискать другого адвоката.
На первоначальном этапе сообщаю, что мне проще, когда я знаю реальных ход событий, так мне понятно какими доказательствами может располагать следователь. Говорю один раз и потом не уточняю этот момент.
получается слоеный пирог:
— как было на самом деле;
— как рассказал доверитель;
— как доверитель до меня сообщал об этих событиях в деле;
— как доверитель сообщает те-же обстоятельства после моего вступления в дело;
Ваши голоса очень важны и позволяют выявлять действительно полезные материалы, интересные широкому кругу профессионалов. При этом бесполезные или откровенно рекламные тексты будут скрываться от посетителей и поисковых систем (Яндекс, Google и т.п.).
Защита по сложным уголовным экономическим делам.
Борьба с фальсификациями и незаконными методами расследования. Опыт, надёжность, добросовестность!
Дорого, но зато качественно. Все встречи и консультации, в т.ч. дистанционные только по предварительной записи.
● Арбитраж. Банкротство. ФАС. Юридическое сопровождение вашего бизнеса.
● Юрист по ВЭД. Споры с ФТС. Международное право.
В рамках адвокатской деятельности оказываю юр. помощь по многим вопросам.
Являюсь также профессиональным медиатором.

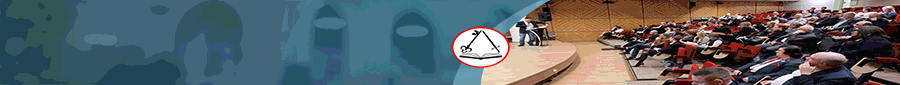


Уважаемый Олег Витальевич, все верно написали — знать «как оно там было на самом деле», возможно (и то не всегда) нужно следователю.
Адвокату — защитнику не так важно что было, чего не было, как то — что из этого могут доказать (ведь иногда можно доказать даже то чего не было — по крайней мере статья с таким названием была опубликована в ведомственном журнале СК).
Но иногда не зная как оно было в действительности — можно получить доказательства обвинения, о существовании которых и не подозревал (а мог бы, если бы знал всю ситуацию)
можно получить доказательства обвинения, о существовании которых и не подозревалУважаемый Сергей Валерьевич, никогда нельзя достоверно знать, что они могут достать из рукава. Особенно это стало проявляться, когда активно стали использовать засекреченных свидетелей. Вот уж они, как чертики из табакерки выскакивают всегда непредсказуемо, и как в песне:
Все, что было не со мной, помнюТут не подстрахуешься никаким знанием о том, «что там на самом деле было». Силу этого знания преувеличивать не стоит, и общее правило — предельная осторожность до окончания следствия и ознакомления с делом.