
Общеизвестно, что мировая юстиция возникла как средство примирения конфликтующих сторон. Вследствие этого мировой судья активно использует примирительную процедуру при рассмотрении уголовных дел, которая проводится не только в соответствии с положениями ст. 76 УК РФ, когда лицо, впервые совершившее преступление небольшой тяжести, загладило причиненный потерпевшему вред, но и по всем делам частного обвинения (ст. 115, 116, ч. 1 ст. 129 и ст. 130 УК) согласно ст. 20 УПК. Об этом свидетельствуют данные судебной статистки, согласно которым доля прекращенных уголовных дел мировыми судьями РФ в связи с примирением с потерпевшим составила (к числу лиц, в отношении которых уголовные дела были прекращены мировыми судьями) — в 2002 г.-70.5%, в 2005г.-85.8%, в 2006 г.-80 %… Количество же прекращенных мировыми судьями уголовных дел по различным основаниям в период с 2002 г. по 2006 г. устойчиво сохраняется на уровне 40-50 % от общего количества дел, оконченных ими производством.
Часть 5 ст. 319 УПК возлагает на мировых судей лишь обязанность разъяснить сторонам возможность примирения, но не раскрывает порядок примирительных процедур, который, несомненно, должен предусматривать двусторонне волеизъявление подсудимого и потерпевшего, включать проверку судом обоснованности предъявленного обвинения, разъяснение сторонам последствий примирения: для потерпевшего — невозможность повторного обращения в суд с просьбой о привлечении подсудимого к уголовной ответственности по данному обвинения, а для подсудимого — прекращение дела по нереабилитирующему основанию.
Отсутствие развернутой законодательной регламентации примирительных процедур по уголовным делам приводит в теории к ошибочному мнению о том, что раскаяние виновного и действительно искреннее прощение его потерпевшим не являются обязательными условиями прекращения дела за примирением, достаточно лишь формального заявления сторон о достижении примирения. Нельзя согласиться и с точкой зрения, согласно которой в случае примирения сторон по делам частного обвинения, суд в силу ч.5 ст.319 УПК РФ обязан прекратить уголовное дело по указанному основанию даже при наличии оснований для вынесения оправдательного приговора.
 Формальный подход в понимании значения примирительных процедур проявляется не только в теории, но и судебной практике, когда условия примирения, к которым относится возмещение ущерба и признание вины, соблюдаются лишь «на бумаге». В этих случаях под воздействием судьи (не без помощи защитника и государственного обвинителя) подсудимые, заблуждаясь относительно существа предъявленного обвинения и фактически не признавая своей вины в совершении преступления, соглашаются с прекращением уголовного дела в связи с примирением сторон, поскольку такой исход дела не влечет для них наказания.
Формальный подход в понимании значения примирительных процедур проявляется не только в теории, но и судебной практике, когда условия примирения, к которым относится возмещение ущерба и признание вины, соблюдаются лишь «на бумаге». В этих случаях под воздействием судьи (не без помощи защитника и государственного обвинителя) подсудимые, заблуждаясь относительно существа предъявленного обвинения и фактически не признавая своей вины в совершении преступления, соглашаются с прекращением уголовного дела в связи с примирением сторон, поскольку такой исход дела не влечет для них наказания.
Со стороны потерпевшего (частного обвинителя) заблуждение может быть связано с обещанием подсудимого, инициированного судом, возместить ущерб, с навязанной судом оценкой доказательств как недостаточных для вынесении обвинительного приговора, а также с разъяснением судом потерпевшему различного рода неблагоприятных для него последствий, связанных с рассмотрением дела (например, длительность и затратность судебного процесса, влияние судимости осужденного родственника на социальный статус потерпевшего и пр.).
Примирительные процедуры с последующей перспективой прекращения производства по делу вопреки интересам сторон нередко используются судьями, не желающими рассматривать дело по существу. Это характерно для сложных дел в ситуации доказывания, связанной с непризнанием обвиняемым своей вины; где совершенное обвиняемым деяние по своему характеру находится на границе преступного и непреступного и пр.
Одним из факторов, способствующих подобной практике является высокая судебная нагрузка. В настоящее время мировые судьи рассматривают около 70 % гражданских дел, значительную часть уголовных дел (30-40 %), а также значительную долю (90-95 %) дел об административных правонарушениях. Однако следует отметить, что Федеральная целевая программа «Развитие судебной системы России на 2007-2011 годы» с внедрением примирительных процедур связывает не только снижение нагрузки на судей, но и повышение качества осуществления правосудия. Таким образом, подчеркивается, что применение примирительных процедур не должно противоречить задачам правосудия.
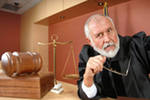 В судебной практике примирительные процедуры иногда используются в целях сокрытия оправдательных приговоров, что, как правило, обусловлено «обвинительным уклоном» в деятельности судей. Большинство оправдательных приговоров обжалуется, а потому требуют повышенного внимания к их качеству, они должны быть изложены логически последовательно и юридически грамотно, а многие судьи не знают процессуальных особенностей постановления и формулирования оправдательных приговоров из-за отсутствия подобной практики.
В судебной практике примирительные процедуры иногда используются в целях сокрытия оправдательных приговоров, что, как правило, обусловлено «обвинительным уклоном» в деятельности судей. Большинство оправдательных приговоров обжалуется, а потому требуют повышенного внимания к их качеству, они должны быть изложены логически последовательно и юридически грамотно, а многие судьи не знают процессуальных особенностей постановления и формулирования оправдательных приговоров из-за отсутствия подобной практики.
Кроме того, «обвинительный уклон» является следствием неправильного понимания судьями назначения правосудия. В условиях, когда государство по экономическим, организационным и другим причинам не может решить проблему общественной безопасности, многие судьи свое назначение видят не в разрешении уголовных дел, а в «борьбе с преступностью» путем сокрытия брака в работе следственных органов. В этом отношении прекращение уголовного дела в связи с примирением с потерпевшим вполне удобное средство, поскольку такой исход дела, с одной стороны, не реабилитирует подсудимого, а, с другой — не связан с применением к последнему уголовной репрессии.
Безусловно, что использование примирительных процедур с нарушением закона вопреки интересам сторон не способствует преодолению последствий преступления и восстановлению прав потерпевших, а приводят к негативному отношению граждан к судебной власти. Как справедливо отмечается в этой связи, «… достаточно отойти от требований, изложенных в процессуальных нормах, пренебречь ими, допустить произвольное их толкование, и это насилие над правом неизбежно отомстит за себя судебной ошибкой, породит новый виток противоречий и дальнейшее углубление конфликта».
Часть 5 ст. 319 УПК возлагает на мировых судей лишь обязанность разъяснить сторонам возможность примирения, но не раскрывает порядок примирительных процедур, который, несомненно, должен предусматривать двусторонне волеизъявление подсудимого и потерпевшего, включать проверку судом обоснованности предъявленного обвинения, разъяснение сторонам последствий примирения: для потерпевшего — невозможность повторного обращения в суд с просьбой о привлечении подсудимого к уголовной ответственности по данному обвинения, а для подсудимого — прекращение дела по нереабилитирующему основанию.
Отсутствие развернутой законодательной регламентации примирительных процедур по уголовным делам приводит в теории к ошибочному мнению о том, что раскаяние виновного и действительно искреннее прощение его потерпевшим не являются обязательными условиями прекращения дела за примирением, достаточно лишь формального заявления сторон о достижении примирения. Нельзя согласиться и с точкой зрения, согласно которой в случае примирения сторон по делам частного обвинения, суд в силу ч.5 ст.319 УПК РФ обязан прекратить уголовное дело по указанному основанию даже при наличии оснований для вынесения оправдательного приговора.
 Формальный подход в понимании значения примирительных процедур проявляется не только в теории, но и судебной практике, когда условия примирения, к которым относится возмещение ущерба и признание вины, соблюдаются лишь «на бумаге». В этих случаях под воздействием судьи (не без помощи защитника и государственного обвинителя) подсудимые, заблуждаясь относительно существа предъявленного обвинения и фактически не признавая своей вины в совершении преступления, соглашаются с прекращением уголовного дела в связи с примирением сторон, поскольку такой исход дела не влечет для них наказания.
Формальный подход в понимании значения примирительных процедур проявляется не только в теории, но и судебной практике, когда условия примирения, к которым относится возмещение ущерба и признание вины, соблюдаются лишь «на бумаге». В этих случаях под воздействием судьи (не без помощи защитника и государственного обвинителя) подсудимые, заблуждаясь относительно существа предъявленного обвинения и фактически не признавая своей вины в совершении преступления, соглашаются с прекращением уголовного дела в связи с примирением сторон, поскольку такой исход дела не влечет для них наказания. Со стороны потерпевшего (частного обвинителя) заблуждение может быть связано с обещанием подсудимого, инициированного судом, возместить ущерб, с навязанной судом оценкой доказательств как недостаточных для вынесении обвинительного приговора, а также с разъяснением судом потерпевшему различного рода неблагоприятных для него последствий, связанных с рассмотрением дела (например, длительность и затратность судебного процесса, влияние судимости осужденного родственника на социальный статус потерпевшего и пр.).
Примирительные процедуры с последующей перспективой прекращения производства по делу вопреки интересам сторон нередко используются судьями, не желающими рассматривать дело по существу. Это характерно для сложных дел в ситуации доказывания, связанной с непризнанием обвиняемым своей вины; где совершенное обвиняемым деяние по своему характеру находится на границе преступного и непреступного и пр.
Одним из факторов, способствующих подобной практике является высокая судебная нагрузка. В настоящее время мировые судьи рассматривают около 70 % гражданских дел, значительную часть уголовных дел (30-40 %), а также значительную долю (90-95 %) дел об административных правонарушениях. Однако следует отметить, что Федеральная целевая программа «Развитие судебной системы России на 2007-2011 годы» с внедрением примирительных процедур связывает не только снижение нагрузки на судей, но и повышение качества осуществления правосудия. Таким образом, подчеркивается, что применение примирительных процедур не должно противоречить задачам правосудия.
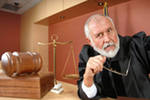 В судебной практике примирительные процедуры иногда используются в целях сокрытия оправдательных приговоров, что, как правило, обусловлено «обвинительным уклоном» в деятельности судей. Большинство оправдательных приговоров обжалуется, а потому требуют повышенного внимания к их качеству, они должны быть изложены логически последовательно и юридически грамотно, а многие судьи не знают процессуальных особенностей постановления и формулирования оправдательных приговоров из-за отсутствия подобной практики.
В судебной практике примирительные процедуры иногда используются в целях сокрытия оправдательных приговоров, что, как правило, обусловлено «обвинительным уклоном» в деятельности судей. Большинство оправдательных приговоров обжалуется, а потому требуют повышенного внимания к их качеству, они должны быть изложены логически последовательно и юридически грамотно, а многие судьи не знают процессуальных особенностей постановления и формулирования оправдательных приговоров из-за отсутствия подобной практики. Кроме того, «обвинительный уклон» является следствием неправильного понимания судьями назначения правосудия. В условиях, когда государство по экономическим, организационным и другим причинам не может решить проблему общественной безопасности, многие судьи свое назначение видят не в разрешении уголовных дел, а в «борьбе с преступностью» путем сокрытия брака в работе следственных органов. В этом отношении прекращение уголовного дела в связи с примирением с потерпевшим вполне удобное средство, поскольку такой исход дела, с одной стороны, не реабилитирует подсудимого, а, с другой — не связан с применением к последнему уголовной репрессии.
Безусловно, что использование примирительных процедур с нарушением закона вопреки интересам сторон не способствует преодолению последствий преступления и восстановлению прав потерпевших, а приводят к негативному отношению граждан к судебной власти. Как справедливо отмечается в этой связи, «… достаточно отойти от требований, изложенных в процессуальных нормах, пренебречь ими, допустить произвольное их толкование, и это насилие над правом неизбежно отомстит за себя судебной ошибкой, породит новый виток противоречий и дальнейшее углубление конфликта».
Автор публикации
Адвокат
churilovuu
Россия, Курская область, Курск
Комментарии (2)
А если подозреваемый невиновен, какое может быть примирение?Оправдательный приговор и точка!
Судебная практика
Si visрасеm, para bellum или худой мир лучше доброй ссоры
Адвокат
Susher
24 Мая 2012, 11:29
Статьи
Примирение сторон в уголовном процессе – основание прекращения уголовного дела. Редакционный обзор
Адвокат
Главный Редактор
28 Августа 2013, 03:39
Судебная практика
Причинение легкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 115 УК РФ), угроза убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ), прекращение ...
Адвокат
Петров Игорь Иванович
16 Января 2022, 14:53
Судебная практика
Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления ...
Адвокат
Шмелев Евгений Викторович
05 Октября 2021, 22:35
Статьи
Прекращение уголовного дела за примирением сторон - статья 264 УК РФ
Адвокат
Шмелев Евгений Викторович
29 Октября 2024, 17:03
Статьи
Примирение сторон (ст. 25 УПК РФ и ст. 76 УК РФ)
Адвокат
user63088
12 Января 2020, 01:27
Судебная практика
Примирение сторон и прекращение уголовного дела по ст. 264 УК РФ. Сложности и пути их преодоления
Адвокат
Спиридонов Михаил Владимирович
06 Мая 2025, 06:55
Статьи
Обвинение в краже – прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон без признания вины.
Адвокат
Спиридонов Михаил Владимирович
20 Сентября 2015, 19:37
Статьи
Прекращение уголовного дела по ст. 156 УК РФ за примирением сторон
Адвокат
Безуглов Александр Александрович
12 Октября 2021, 00:53
Судебная практика
Прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон, одним обвиняемым в преступлении, предусмотренном ...
Адвокат
orlikov123
01 Июня 2017, 13:03
Судебная практика
Si visрасеm, para bellum или худой мир лучше доброй ссоры
Адвокат
Susher
24 Мая 2012, 11:29
Статьи
Примирение сторон в уголовном процессе – основание прекращения уголовного дела. Редакционный обзор
Адвокат
Главный Редактор
28 Августа 2013, 03:39
Судебная практика
Причинение легкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 115 УК РФ), угроза убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ), прекращение ...
Адвокат
Петров Игорь Иванович
16 Января 2022, 14:53
Судебная практика
Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления ...
Адвокат
Шмелев Евгений Викторович
05 Октября 2021, 22:35
Статьи
Прекращение уголовного дела за примирением сторон - статья 264 УК РФ
Адвокат
Шмелев Евгений Викторович
29 Октября 2024, 17:03
Статьи
Примирение сторон (ст. 25 УПК РФ и ст. 76 УК РФ)
Адвокат
user63088
12 Января 2020, 01:27
Судебная практика
Примирение сторон и прекращение уголовного дела по ст. 264 УК РФ. Сложности и пути их преодоления
Адвокат
Спиридонов Михаил Владимирович
06 Мая 2025, 06:55
Статьи
Обвинение в краже – прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон без признания вины.
Адвокат
Спиридонов Михаил Владимирович
20 Сентября 2015, 19:37
Статьи
Прекращение уголовного дела по ст. 156 УК РФ за примирением сторон
Адвокат
Безуглов Александр Александрович
12 Октября 2021, 00:53
Судебная практика
Прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон, одним обвиняемым в преступлении, предусмотренном ...
Адвокат
orlikov123
01 Июня 2017, 13:03
Ваши персональные заметки к публикации
Видны только вам
Вы можете сохранять заметки к публикациям только в разделах Персональный и Песочница. Для снятия ограничений
подключите ПРО-аккаунт
ПЕРСОНАЛЬНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Специализируюсь на защите и представительстве по уголовным делам.
В рамках адвокатской деятельности оказываю юр. помощь по многим вопросам.
Являюсь также профессиональным медиатором.
В рамках адвокатской деятельности оказываю юр. помощь по многим вопросам.
Являюсь также профессиональным медиатором.
ПЕРСОНАЛЬНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Сложные гражданские, уголовные и административные дела экономической направленности.
Дорого, но зато качественно. Все встречи и консультации, в т.ч. дистанционные только по предварительной записи.
Дорого, но зато качественно. Все встречи и консультации, в т.ч. дистанционные только по предварительной записи.
ПЕРСОНАЛЬНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Моя специализация бизнес и финансы.
Защита по сложным уголовным экономическим делам.
Борьба с фальсификациями и незаконными методами расследования. Опыт, надёжность, добросовестность!
Защита по сложным уголовным экономическим делам.
Борьба с фальсификациями и незаконными методами расследования. Опыт, надёжность, добросовестность!
ПЕРСОНАЛЬНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
● Недвижимость. Легализация самостроя. Наследство. Земля. Суды с ДГИ Москвы.
● Арбитраж. Банкротство. ФАС. Юридическое сопровождение вашего бизнеса.
● Юрист по ВЭД. Споры с ФТС. Международное право.
● Арбитраж. Банкротство. ФАС. Юридическое сопровождение вашего бизнеса.
● Юрист по ВЭД. Споры с ФТС. Международное право.
ПЕРСОНАЛЬНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Сопровождение бизнеса и IT: КИИ, ФСТЭК, налоги. Защита директоров и собственников в делах о банкротстве и субсидиарной ответственности. Налоговые преступления (ст.198,199). 20+ лет опыта, 250+ кейсов
Разместить свою визитку
Другие публикации автора
Похожие публикации
Si visрасеm, para bellum или худой мир лучше доброй ссоры
Судебная практика, 24 Мая 2012, 11:29 24 Мая 2012, 11:29
Примирение сторон в уголовном процессе – основание прекращения уголовного дела. Редакционный обзор
Статьи, 28 Августа 2013, 03:39 28 Августа 2013, 03:39
Причинение легкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 115 УК РФ), угроза убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ), прекращение ...
Судебная практика, 16 Января 2022, 14:53 16 Января 2022, 14:53
Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления ...
Судебная практика, 05 Октября 2021, 22:35 05 Октября 2021, 22:35
Прекращение уголовного дела за примирением сторон - статья 264 УК РФ
Статьи, 29 Октября 2024, 17:03 29 Октября 2024, 17:03
Примирение сторон (ст. 25 УПК РФ и ст. 76 УК РФ)
Статьи, 12 Января 2020, 01:27 12 Января 2020, 01:27
Примирение сторон и прекращение уголовного дела по ст. 264 УК РФ. Сложности и пути их преодоления
Судебная практика, 06 Мая 2025, 06:55 06 Мая 2025, 06:55
Обвинение в краже – прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон без признания вины.
Статьи, 20 Сентября 2015, 19:37 20 Сентября 2015, 19:37
Прекращение уголовного дела по ст. 156 УК РФ за примирением сторон
Статьи, 12 Октября 2021, 00:53 12 Октября 2021, 00:53
Прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон, одним обвиняемым в преступлении, предусмотренном ...
Судебная практика, 01 Июня 2017, 13:03 01 Июня 2017, 13:03
Продвигаемые публикации
Поздравление с Днем защитника Отечества
Новости проекта, 21 Февраля, 11:30 21 Февраля, 11:30
Как понять, что адвокат-защитник по уголовным делам хороший и где его найти?
Статьи, 13 Февраля, 18:55 13 Февраля, 18:55
Как работа с потерпевшим может помочь избежать реального лишения свободы. Условное наказание за совершение ...
Судебная практика, 03 Февраля, 19:14 03 Февраля, 19:14
Защита ветерана: путь от «фильма ужасов» на видео до условного срока по ст. 111 и 119 УК РФ
Судебная практика, 31 Января, 14:56 31 Января, 14:56
Кому на самом деле принадлежат тематические фотографии из поиска Яндекса и сколько стоит бесплатная картинка ...
Статьи, 28 Января, 10:05 28 Января, 10:05
Консультация юриста в 2026: как выбрать правильного юриста и не попасть на жулика
Личные блоги, 19 Января, 16:29 19 Января, 16:29
Зачет сроков применения мер пресечения при подаче ходатайства об УДО. Юридическая арифметика - как время ...
Статьи, 09 Января, 12:37 09 Января, 12:37

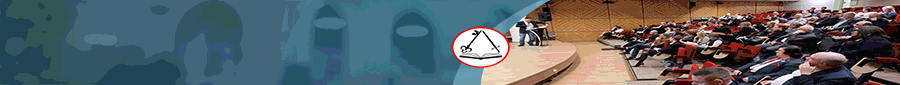

Судье всегда легче "кбедить" стороны "примириться", чем вынести оправдательный приговор...