
Совпадение позиции профессионального защитника (адвоката) и подзащитного является древнейшей традицией юриспруденции, и современным законодательством унаследована как элемент добропорядочной защиты. Данная обязанность урегулирована на законодательном уровне (ст. 6 ч.4 п.3, 4 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре»). Вместе с тем законодательство, регулирующее специальный процессуальный статус адвоката (защитник, представитель) не содержит упоминания об обязанности адвоката следовать позиции подзащитного, представляемого. Многие теоретики процесса видят родственную природу института представительства гражданского права ( ст. 185, 186 Гражданского Кодекса РФ) и процессуальных полномочий представителя, механически перенося данный институт в сферу уголовного процесса. Данная позиция представляется неверной в силу следующих обстоятельств.
1. Защита по уголовному делу не реализует «частного интереса», это деятельность непосредственно основанная и вытекающая из квинтэссенции публичного права – Конституции РФ, которая гарантирует каждому возможность пользоваться квалифицированной юридической помощью. В этом отношении неоднократные заявления, о том, что деятельность адвоката это конституционная деятельность, представляются по сути верными и обоснованными. Таким образом, институт представительства, рожденный в сфере полярной публичному праву, в сфере частно- правовых отношений (фидуция в Римском частном праве), лишь формально похож на институт тождества позиций в сфере защиты по уголовному делу, но ничего общего по содержанию првоотношений с ним не имеет.
1.1. В пользу данной позиции свидетельствует и тот факт, что представительство в рамках гражданско- правовых отношений основывается на том, что представляемый обладает правами, изначально включенными в его правоспособность, и которые он реализует при помощи представителя, при условии возникновения соответствующих юридических фактов (наступление совершеннолетия, открытие наследства, деликт и прочее). В рамках уголовно- правовых отношений круг прав и обязанностей подзащитного никак не связан с его правоспособностью, а составляет сумму гарантий, реализация которых возложена на каждого участника уголовного процесса, вне зависимости от его принадлежности к функциям обвинения, защиты, разрешения уголовного дела. Дееспособность же вообще является критерием уголовной ответственности.Таким образом, и схема ограниченной манципации, когда права по действиям представителя, возникают у представляемого так же не работает в рамках уголовной защиты. Причинно — следственная связь здесь глубже и не носит автоматизированного характера.
 2. Сторонники аналогии весьма часто употребляют пример конструкции действий в чужом интересе гражданского права, а так же механизм аналогии отступления доверенного лица от указаний доверителя, разработанного в конструкции договора поручения (существует еще и отдельный спор о природе соглашения об адвокатской помощи по уголовному делу — договор возмездного оказания услуг, договор поручения, смешанный договор и т.д.). Но и здесь аналогия формальна, содержательный анализ участников правоотношений показывает, что сходство является поверхностным.Институт тождества исходит из презумпции высокого профессионализма адвоката и исполнения им своего долга в соответствии с требованиями Кодекса профессиональной этики адвоката.
2. Сторонники аналогии весьма часто употребляют пример конструкции действий в чужом интересе гражданского права, а так же механизм аналогии отступления доверенного лица от указаний доверителя, разработанного в конструкции договора поручения (существует еще и отдельный спор о природе соглашения об адвокатской помощи по уголовному делу — договор возмездного оказания услуг, договор поручения, смешанный договор и т.д.). Но и здесь аналогия формальна, содержательный анализ участников правоотношений показывает, что сходство является поверхностным.Институт тождества исходит из презумпции высокого профессионализма адвоката и исполнения им своего долга в соответствии с требованиями Кодекса профессиональной этики адвоката.
Более того, такая позиция предполагает высокие моральные качества адвоката, наличие которых позволяет обеспечивать безусловное соблюдение требований профессии. Скажем так, в этом механизме усматривается несколько порочных посылок.Клиент адвоката по уголовному делу, если он сам не является адвокатом, специализирующимся в области уголовной защиты, абсолютно не сведущ в вопросах тактики и стратегии защиты. Здесь уместна аналогия врача и пациента. По сути, возможно две ситуации, либо врач руководит лечением, либо больной, и в том и в другом случае наличие эффективного лечения не гарантированно.
При этом у врача всегда виноват пациент (поздно обратился, не вел здоровый образ жизни, не соблюдает рекомендации), у пациента – всегда виноват врач (невнимателен, недообследовал, не учел обстоятельств, просто не сведущ). Современная медицина эффективна в 30%. Современная юриспруденция в области уголовной защиты в РФ на 1.5%.
Поэтому весьма часто адвокат в РФ с радостью занимает позицию врача, ведомого «сведущим» пациентом (тем более, что ст. 6 ч. 4 ФЗ «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в РФ» презюмирует способность клиента осознать и руководить ходом защиты — адвокат не праве занимать позицию вопреки воле доверителя). Плачевность результатов такой деятельности и отражена в рамках статистики оправдательных приговоров в РФ. Моральным оправданием в данном случае служит то, что не существует четкого алгоритма причинно – следственной связи между действиями по защите клиента и решением по делу.
Этому противостоит запрет на гарантию результата при ведении защиты. Сама защита как таковая полностью отдана на откуп моральности адвоката, его способности осознавать понятие добросовестности и разумности. Кодекс профессиональной этики лишь однажды возлагает на адвоката обязанность совершения конкретного процессуального действия при конкретике условий — ст. 13 ч. 4 Кодекса профессиональной этики адвоката РФ. При этом, на наш взгляд, разработка примерного обязательного алгоритма защиты, помимо существующего сегодня алгоритма «мебельной защиты» (адвокат в качестве предмета мебели при производстве следственных и иных процессуальных действий) явилось бы существенным сдвигом в данной ситуации. Это позволило бы установить некоторое тождество интересов клиента и адвоката, а понятие позиции клиента было бы формализованно юридически, а не социально.
 Поскольку сегодня понятие «позиция клиента по делу» сводится как это ни странно к дизъюнкции «виновен — невиновен». Это практически не применимо в тактике защиты в уголовном процессе. Само по себе доказывание состоит в последовательном установлении определенных обстоятельств, определенным способом, при соблюдении ряда обязательных условий. Успешность материальных оснований (вопросы факта) всецело зависит от четкости реализации процессуальной формы, от умения адвоката «давить» с помощью процесса на субъектов обвинения, разрешения дела. И здесь говорить о совпадении позиции клиента и защитника недопустимо. Большинство подзащитных просто не разбираются в тонкостях уголовного процесса даже в теории, не говоря уже о практике, а тем более об изощренной практике, соответственно, позиции здесь у них быть не может.
Поскольку сегодня понятие «позиция клиента по делу» сводится как это ни странно к дизъюнкции «виновен — невиновен». Это практически не применимо в тактике защиты в уголовном процессе. Само по себе доказывание состоит в последовательном установлении определенных обстоятельств, определенным способом, при соблюдении ряда обязательных условий. Успешность материальных оснований (вопросы факта) всецело зависит от четкости реализации процессуальной формы, от умения адвоката «давить» с помощью процесса на субъектов обвинения, разрешения дела. И здесь говорить о совпадении позиции клиента и защитника недопустимо. Большинство подзащитных просто не разбираются в тонкостях уголовного процесса даже в теории, не говоря уже о практике, а тем более об изощренной практике, соответственно, позиции здесь у них быть не может.
Но даже, если она есть, допустим, подзащитный опытнее и сильнее своих защитников, тогда защитники превращаются в рядовых технических исполнителей, поскольку их позиция есть форма служения интересам клиента. Таким образом, закон не случайно не упоминает понятие процессуальной позиции, оставляя за адвокатом самостоятельность позиции по делу, называя его, соответственно, участником процесса. Все остальное интересы взаимоотношений клиента и доверителя, корпоративные интересы правосудия и прочее.Фактически сегодня, обязанность адвоката следовать позиции подзащитного означает только одно – придерживаться только позиции «виновен- невиновен».
А это означает, что законодатель отдает вопросы квалификации не адвокату, а его клиенту, настаивая на том, что сам клиент грамотен настолько, что в состоянии оценить есть ли в его действиях состав преступления или нет. Именно такая позиция складывается, например, когда подзащитный признает вину и отказывается от дачи показаний. Вопрос факта остается за пределами оценки. Правда, Закон и КПЭА упоминают о том, что адвокат в случае, если он убежден (хорошее слово!) в самооговоре своего подзащитного вправе занять курс на реабилитацию. Но здесь не учитывается то обстоятельство, что весьма часто органы предварительного расследования возбуждают уголовные дела там, где и в помине не было состава преступления, или квалифицируют действия обвиняемого таким образом, что при анализе материалов дела только диву даешься.
 Сами же подзащитные в данном случае, видя всю серьезность ситуации (а порой серьезность ситуации видится через решетчатые окна следственного изолятора) верят в криминальность своих деяний, искренне раскаиваются и подписывают протоколы полные признательных заявлений и тому подобное. Данную ситуацию самооговором назвать нельзя, это т.н. случаи «добросовестного заблуждения». Каковы должны быть действия защитника, в случае, если все консультации клиента не смогли его переубедить? Заявлять ходатайство о прекращении уголовного преследования, когда подзащитный полностью признал свою вину? Убеждать следователя, что он допустил юридическую ошибку? Проблема в том, что если следователь имеет лучший психологический контакт с подзащитным, чем адвокат, это может закончиться проблемами для самого адвоката. Очень часто в таких ситуациях следствие говорит о том, что теперь (после соответствующих ходатайств) нет возможности постановления приговора с учетом ст. 73 УК РФ, меру пресечения не изменить и так далее, и тому подобное.
Сами же подзащитные в данном случае, видя всю серьезность ситуации (а порой серьезность ситуации видится через решетчатые окна следственного изолятора) верят в криминальность своих деяний, искренне раскаиваются и подписывают протоколы полные признательных заявлений и тому подобное. Данную ситуацию самооговором назвать нельзя, это т.н. случаи «добросовестного заблуждения». Каковы должны быть действия защитника, в случае, если все консультации клиента не смогли его переубедить? Заявлять ходатайство о прекращении уголовного преследования, когда подзащитный полностью признал свою вину? Убеждать следователя, что он допустил юридическую ошибку? Проблема в том, что если следователь имеет лучший психологический контакт с подзащитным, чем адвокат, это может закончиться проблемами для самого адвоката. Очень часто в таких ситуациях следствие говорит о том, что теперь (после соответствующих ходатайств) нет возможности постановления приговора с учетом ст. 73 УК РФ, меру пресечения не изменить и так далее, и тому подобное.
С учетом того, что вопрос состава преступления (одним из элементов, которого является субъективная сторона) решается в конечном счете в комплексе только судом, адвокату будет весьма проблематично доказать, что он был прав при вступившем в силу приговоре суда, который разделит позицию, выраженную самим его подзащитным, а адвокат будет настаивать при этом на оправдании по убежденности в самооговоре. Таким образом, закон полностью лишает адвоката возможности действовать в интересах клиента, в случае, если клиент против таких действий возражает.
Это примерно тоже самое как, если бы врач, увидев необходимость срочного медицинского вмешательства не стал бы этого делать, учитывая возражения пациента, или, если бы сотрудники МЧС не спасали бы самоубийц только потому что те не желают, чтобы их спасали. В общем, на наш взгляд, это мало понятная ситуация, требующая своего правового регулирования или в рамках федерального законодательства, или в рамках нормативных актов, имеющих силу закона. В противном случае, халдейство адвокатов перед следствием и судом будет только усиливаться, подпитываемое как разрозненностью и разобщенностью последних, так и отсутствием четкого формально- юридического инструментария (алгоритма защиты в том числе) общения с клиентом, оказания последнему квалифицированной юридической помощи.
При этом начинать необходимо именно с нашего высшего образования, у нас в университетах готовят кого угодно, но только не адвокатов (радостное исключение АПУ ИГП РАН и РАА при РГА). Понимать же под квалифицированной юридической помощью помощь адвоката из числа б/с прокуратуры, МВД и прочее – слишком иезуитский подход.
Настоящей заметкой мы призываем руководителей Адвокатских палат РФ к конструктивной и содержательной дискуссии на данную тему, которая, смеем надеяться, приведет к общему положительному результату.
1. Защита по уголовному делу не реализует «частного интереса», это деятельность непосредственно основанная и вытекающая из квинтэссенции публичного права – Конституции РФ, которая гарантирует каждому возможность пользоваться квалифицированной юридической помощью. В этом отношении неоднократные заявления, о том, что деятельность адвоката это конституционная деятельность, представляются по сути верными и обоснованными. Таким образом, институт представительства, рожденный в сфере полярной публичному праву, в сфере частно- правовых отношений (фидуция в Римском частном праве), лишь формально похож на институт тождества позиций в сфере защиты по уголовному делу, но ничего общего по содержанию првоотношений с ним не имеет.
1.1. В пользу данной позиции свидетельствует и тот факт, что представительство в рамках гражданско- правовых отношений основывается на том, что представляемый обладает правами, изначально включенными в его правоспособность, и которые он реализует при помощи представителя, при условии возникновения соответствующих юридических фактов (наступление совершеннолетия, открытие наследства, деликт и прочее). В рамках уголовно- правовых отношений круг прав и обязанностей подзащитного никак не связан с его правоспособностью, а составляет сумму гарантий, реализация которых возложена на каждого участника уголовного процесса, вне зависимости от его принадлежности к функциям обвинения, защиты, разрешения уголовного дела. Дееспособность же вообще является критерием уголовной ответственности.Таким образом, и схема ограниченной манципации, когда права по действиям представителя, возникают у представляемого так же не работает в рамках уголовной защиты. Причинно — следственная связь здесь глубже и не носит автоматизированного характера.
 2. Сторонники аналогии весьма часто употребляют пример конструкции действий в чужом интересе гражданского права, а так же механизм аналогии отступления доверенного лица от указаний доверителя, разработанного в конструкции договора поручения (существует еще и отдельный спор о природе соглашения об адвокатской помощи по уголовному делу — договор возмездного оказания услуг, договор поручения, смешанный договор и т.д.). Но и здесь аналогия формальна, содержательный анализ участников правоотношений показывает, что сходство является поверхностным.Институт тождества исходит из презумпции высокого профессионализма адвоката и исполнения им своего долга в соответствии с требованиями Кодекса профессиональной этики адвоката.
2. Сторонники аналогии весьма часто употребляют пример конструкции действий в чужом интересе гражданского права, а так же механизм аналогии отступления доверенного лица от указаний доверителя, разработанного в конструкции договора поручения (существует еще и отдельный спор о природе соглашения об адвокатской помощи по уголовному делу — договор возмездного оказания услуг, договор поручения, смешанный договор и т.д.). Но и здесь аналогия формальна, содержательный анализ участников правоотношений показывает, что сходство является поверхностным.Институт тождества исходит из презумпции высокого профессионализма адвоката и исполнения им своего долга в соответствии с требованиями Кодекса профессиональной этики адвоката. Более того, такая позиция предполагает высокие моральные качества адвоката, наличие которых позволяет обеспечивать безусловное соблюдение требований профессии. Скажем так, в этом механизме усматривается несколько порочных посылок.Клиент адвоката по уголовному делу, если он сам не является адвокатом, специализирующимся в области уголовной защиты, абсолютно не сведущ в вопросах тактики и стратегии защиты. Здесь уместна аналогия врача и пациента. По сути, возможно две ситуации, либо врач руководит лечением, либо больной, и в том и в другом случае наличие эффективного лечения не гарантированно.
При этом у врача всегда виноват пациент (поздно обратился, не вел здоровый образ жизни, не соблюдает рекомендации), у пациента – всегда виноват врач (невнимателен, недообследовал, не учел обстоятельств, просто не сведущ). Современная медицина эффективна в 30%. Современная юриспруденция в области уголовной защиты в РФ на 1.5%.
Поэтому весьма часто адвокат в РФ с радостью занимает позицию врача, ведомого «сведущим» пациентом (тем более, что ст. 6 ч. 4 ФЗ «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в РФ» презюмирует способность клиента осознать и руководить ходом защиты — адвокат не праве занимать позицию вопреки воле доверителя). Плачевность результатов такой деятельности и отражена в рамках статистики оправдательных приговоров в РФ. Моральным оправданием в данном случае служит то, что не существует четкого алгоритма причинно – следственной связи между действиями по защите клиента и решением по делу.
Этому противостоит запрет на гарантию результата при ведении защиты. Сама защита как таковая полностью отдана на откуп моральности адвоката, его способности осознавать понятие добросовестности и разумности. Кодекс профессиональной этики лишь однажды возлагает на адвоката обязанность совершения конкретного процессуального действия при конкретике условий — ст. 13 ч. 4 Кодекса профессиональной этики адвоката РФ. При этом, на наш взгляд, разработка примерного обязательного алгоритма защиты, помимо существующего сегодня алгоритма «мебельной защиты» (адвокат в качестве предмета мебели при производстве следственных и иных процессуальных действий) явилось бы существенным сдвигом в данной ситуации. Это позволило бы установить некоторое тождество интересов клиента и адвоката, а понятие позиции клиента было бы формализованно юридически, а не социально.
 Поскольку сегодня понятие «позиция клиента по делу» сводится как это ни странно к дизъюнкции «виновен — невиновен». Это практически не применимо в тактике защиты в уголовном процессе. Само по себе доказывание состоит в последовательном установлении определенных обстоятельств, определенным способом, при соблюдении ряда обязательных условий. Успешность материальных оснований (вопросы факта) всецело зависит от четкости реализации процессуальной формы, от умения адвоката «давить» с помощью процесса на субъектов обвинения, разрешения дела. И здесь говорить о совпадении позиции клиента и защитника недопустимо. Большинство подзащитных просто не разбираются в тонкостях уголовного процесса даже в теории, не говоря уже о практике, а тем более об изощренной практике, соответственно, позиции здесь у них быть не может.
Поскольку сегодня понятие «позиция клиента по делу» сводится как это ни странно к дизъюнкции «виновен — невиновен». Это практически не применимо в тактике защиты в уголовном процессе. Само по себе доказывание состоит в последовательном установлении определенных обстоятельств, определенным способом, при соблюдении ряда обязательных условий. Успешность материальных оснований (вопросы факта) всецело зависит от четкости реализации процессуальной формы, от умения адвоката «давить» с помощью процесса на субъектов обвинения, разрешения дела. И здесь говорить о совпадении позиции клиента и защитника недопустимо. Большинство подзащитных просто не разбираются в тонкостях уголовного процесса даже в теории, не говоря уже о практике, а тем более об изощренной практике, соответственно, позиции здесь у них быть не может. Но даже, если она есть, допустим, подзащитный опытнее и сильнее своих защитников, тогда защитники превращаются в рядовых технических исполнителей, поскольку их позиция есть форма служения интересам клиента. Таким образом, закон не случайно не упоминает понятие процессуальной позиции, оставляя за адвокатом самостоятельность позиции по делу, называя его, соответственно, участником процесса. Все остальное интересы взаимоотношений клиента и доверителя, корпоративные интересы правосудия и прочее.Фактически сегодня, обязанность адвоката следовать позиции подзащитного означает только одно – придерживаться только позиции «виновен- невиновен».
А это означает, что законодатель отдает вопросы квалификации не адвокату, а его клиенту, настаивая на том, что сам клиент грамотен настолько, что в состоянии оценить есть ли в его действиях состав преступления или нет. Именно такая позиция складывается, например, когда подзащитный признает вину и отказывается от дачи показаний. Вопрос факта остается за пределами оценки. Правда, Закон и КПЭА упоминают о том, что адвокат в случае, если он убежден (хорошее слово!) в самооговоре своего подзащитного вправе занять курс на реабилитацию. Но здесь не учитывается то обстоятельство, что весьма часто органы предварительного расследования возбуждают уголовные дела там, где и в помине не было состава преступления, или квалифицируют действия обвиняемого таким образом, что при анализе материалов дела только диву даешься.
 Сами же подзащитные в данном случае, видя всю серьезность ситуации (а порой серьезность ситуации видится через решетчатые окна следственного изолятора) верят в криминальность своих деяний, искренне раскаиваются и подписывают протоколы полные признательных заявлений и тому подобное. Данную ситуацию самооговором назвать нельзя, это т.н. случаи «добросовестного заблуждения». Каковы должны быть действия защитника, в случае, если все консультации клиента не смогли его переубедить? Заявлять ходатайство о прекращении уголовного преследования, когда подзащитный полностью признал свою вину? Убеждать следователя, что он допустил юридическую ошибку? Проблема в том, что если следователь имеет лучший психологический контакт с подзащитным, чем адвокат, это может закончиться проблемами для самого адвоката. Очень часто в таких ситуациях следствие говорит о том, что теперь (после соответствующих ходатайств) нет возможности постановления приговора с учетом ст. 73 УК РФ, меру пресечения не изменить и так далее, и тому подобное.
Сами же подзащитные в данном случае, видя всю серьезность ситуации (а порой серьезность ситуации видится через решетчатые окна следственного изолятора) верят в криминальность своих деяний, искренне раскаиваются и подписывают протоколы полные признательных заявлений и тому подобное. Данную ситуацию самооговором назвать нельзя, это т.н. случаи «добросовестного заблуждения». Каковы должны быть действия защитника, в случае, если все консультации клиента не смогли его переубедить? Заявлять ходатайство о прекращении уголовного преследования, когда подзащитный полностью признал свою вину? Убеждать следователя, что он допустил юридическую ошибку? Проблема в том, что если следователь имеет лучший психологический контакт с подзащитным, чем адвокат, это может закончиться проблемами для самого адвоката. Очень часто в таких ситуациях следствие говорит о том, что теперь (после соответствующих ходатайств) нет возможности постановления приговора с учетом ст. 73 УК РФ, меру пресечения не изменить и так далее, и тому подобное. С учетом того, что вопрос состава преступления (одним из элементов, которого является субъективная сторона) решается в конечном счете в комплексе только судом, адвокату будет весьма проблематично доказать, что он был прав при вступившем в силу приговоре суда, который разделит позицию, выраженную самим его подзащитным, а адвокат будет настаивать при этом на оправдании по убежденности в самооговоре. Таким образом, закон полностью лишает адвоката возможности действовать в интересах клиента, в случае, если клиент против таких действий возражает.
Это примерно тоже самое как, если бы врач, увидев необходимость срочного медицинского вмешательства не стал бы этого делать, учитывая возражения пациента, или, если бы сотрудники МЧС не спасали бы самоубийц только потому что те не желают, чтобы их спасали. В общем, на наш взгляд, это мало понятная ситуация, требующая своего правового регулирования или в рамках федерального законодательства, или в рамках нормативных актов, имеющих силу закона. В противном случае, халдейство адвокатов перед следствием и судом будет только усиливаться, подпитываемое как разрозненностью и разобщенностью последних, так и отсутствием четкого формально- юридического инструментария (алгоритма защиты в том числе) общения с клиентом, оказания последнему квалифицированной юридической помощи.
При этом начинать необходимо именно с нашего высшего образования, у нас в университетах готовят кого угодно, но только не адвокатов (радостное исключение АПУ ИГП РАН и РАА при РГА). Понимать же под квалифицированной юридической помощью помощь адвоката из числа б/с прокуратуры, МВД и прочее – слишком иезуитский подход.
Настоящей заметкой мы призываем руководителей Адвокатских палат РФ к конструктивной и содержательной дискуссии на данную тему, которая, смеем надеяться, приведет к общему положительному результату.
Автор публикации
Адвокат
ludologer
Россия, Москва и Московская область, Москва
Комментарии (1)
Песочница
К вопросу о расторжении адвокатом соглашения о защите по уголовному делу
Адвокат
ludologer
12 Февраля 2015, 19:45
Статьи
Про степень участия доверителя в выполнении адвокатом его поручения о защите по уголовному делу
Адвокат
user89536
06 Июля 2024, 19:09
Песочница
Действия, признанные административным правонарушением — не могут повторно учитываться при производстве ...
user708348
28 Марта 2020, 22:23
Судебная практика
Из рубрики: как прекратить уголовное дело или получить условное наказание по тяжкому обвинению. Один ...
Адвокат
Гурьев Вадим Иванович
08 Сентября 2020, 12:05
Вопросы и ответы онлайн (архив)
При рассмотрении по уголовному делу кассационной жалобы не было адвоката, хотя я в этой жалобе настаивал ...
andrei-leshii
07 Сентября 2012, 16:21
Судебная практика
Применение тактики затягивания процесса по уголовному делу о преступлении, предусмотренном ч.2 ст.112 ...
Адвокат
smirnov-advocate
17 Августа 2020, 22:53
Судебная практика
Стратегические ошибки обвиняемого по уголовному делу. Фальсификация доказательств (часть вторая: суд...
Адвокат
Бандуков Дмитрий Ильдусович
03 Июля 2019, 08:50
Статьи
Тактика затягивания расследования по уголовному делу о преступлении, предусмотренном ч.1 ст.134 УК Р...
Адвокат
smirnov-advocate
23 Октября 2020, 00:44
Судебная практика
Основные аспекты работы защиты по уголовному делу в отношении Кибальченко А.В., Осипова Р.И., Енбекова ...
Адвокат
alvitvas
03 Июля 2025, 14:43
Песочница
К вопросу о расторжении адвокатом соглашения о защите по уголовному делу
Адвокат
ludologer
12 Февраля 2015, 19:45
Статьи
Про степень участия доверителя в выполнении адвокатом его поручения о защите по уголовному делу
Адвокат
user89536
06 Июля 2024, 19:09
Песочница
Действия, признанные административным правонарушением — не могут повторно учитываться при производстве ...
user708348
28 Марта 2020, 22:23
Судебная практика
Из рубрики: как прекратить уголовное дело или получить условное наказание по тяжкому обвинению. Один ...
Адвокат
Гурьев Вадим Иванович
08 Сентября 2020, 12:05
Вопросы и ответы онлайн (архив)
При рассмотрении по уголовному делу кассационной жалобы не было адвоката, хотя я в этой жалобе настаивал ...
andrei-leshii
07 Сентября 2012, 16:21
Судебная практика
Применение тактики затягивания процесса по уголовному делу о преступлении, предусмотренном ч.2 ст.112 ...
Адвокат
smirnov-advocate
17 Августа 2020, 22:53
Судебная практика
Стратегические ошибки обвиняемого по уголовному делу. Фальсификация доказательств (часть вторая: суд...
Адвокат
Бандуков Дмитрий Ильдусович
03 Июля 2019, 08:50
Статьи
Тактика затягивания расследования по уголовному делу о преступлении, предусмотренном ч.1 ст.134 УК Р...
Адвокат
smirnov-advocate
23 Октября 2020, 00:44
Судебная практика
Основные аспекты работы защиты по уголовному делу в отношении Кибальченко А.В., Осипова Р.И., Енбекова ...
Адвокат
alvitvas
03 Июля 2025, 14:43
Ваши персональные заметки к публикации
Видны только вам
Вы можете сохранять заметки к публикациям только в разделах Персональный и Песочница. Для снятия ограничений
подключите ПРО-аккаунт
ПЕРСОНАЛЬНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Сопровождение бизнеса и IT: КИИ, ФСТЭК, налоги. Защита директоров и собственников в делах о банкротстве и субсидиарной ответственности. Налоговые преступления (ст.198,199). 20+ лет опыта, 250+ кейсов
ПЕРСОНАЛЬНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Моя специализация бизнес и финансы.
Защита по сложным уголовным экономическим делам.
Борьба с фальсификациями и незаконными методами расследования. Опыт, надёжность, добросовестность!
Защита по сложным уголовным экономическим делам.
Борьба с фальсификациями и незаконными методами расследования. Опыт, надёжность, добросовестность!
ПЕРСОНАЛЬНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Специализируюсь на защите и представительстве по уголовным делам.
В рамках адвокатской деятельности оказываю юр. помощь по многим вопросам.
Являюсь также профессиональным медиатором.
В рамках адвокатской деятельности оказываю юр. помощь по многим вопросам.
Являюсь также профессиональным медиатором.
ПЕРСОНАЛЬНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Сложные гражданские, уголовные и административные дела экономической направленности.
Дорого, но зато качественно. Все встречи и консультации, в т.ч. дистанционные только по предварительной записи.
Дорого, но зато качественно. Все встречи и консультации, в т.ч. дистанционные только по предварительной записи.
ПЕРСОНАЛЬНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
● Недвижимость. Легализация самостроя. Наследство. Земля. Суды с ДГИ Москвы.
● Арбитраж. Банкротство. ФАС. Юридическое сопровождение вашего бизнеса.
● Юрист по ВЭД. Споры с ФТС. Международное право.
● Арбитраж. Банкротство. ФАС. Юридическое сопровождение вашего бизнеса.
● Юрист по ВЭД. Споры с ФТС. Международное право.
Разместить свою визитку
Другие публикации автора
Похожие публикации
К вопросу о расторжении адвокатом соглашения о защите по уголовному делу
Песочница, 12 Февраля 2015, 19:45 12 Февраля 2015, 19:45
Про степень участия доверителя в выполнении адвокатом его поручения о защите по уголовному делу
Статьи, 06 Июля 2024, 19:09 06 Июля 2024, 19:09
Действия, признанные административным правонарушением — не могут повторно учитываться при производстве ...
Песочница, 28 Марта 2020, 22:23 28 Марта 2020, 22:23
Из рубрики: как прекратить уголовное дело или получить условное наказание по тяжкому обвинению. Один ...
Судебная практика, 08 Сентября 2020, 12:05 08 Сентября 2020, 12:05
При рассмотрении по уголовному делу кассационной жалобы не было адвоката, хотя я в этой жалобе настаивал ...
Вопросы и ответы онлайн (архив), 07 Сентября 2012, 16:21 07 Сентября 2012, 16:21
Применение тактики затягивания процесса по уголовному делу о преступлении, предусмотренном ч.2 ст.112 ...
Судебная практика, 17 Августа 2020, 22:53 17 Августа 2020, 22:53
Стратегические ошибки обвиняемого по уголовному делу. Фальсификация доказательств (часть вторая: суд...
Судебная практика, 03 Июля 2019, 08:50 03 Июля 2019, 08:50
Тактика затягивания расследования по уголовному делу о преступлении, предусмотренном ч.1 ст.134 УК Р...
Статьи, 23 Октября 2020, 00:44 23 Октября 2020, 00:44
Основные аспекты работы защиты по уголовному делу в отношении Кибальченко А.В., Осипова Р.И., Енбекова ...
Судебная практика, 03 Июля 2025, 14:43 03 Июля 2025, 14:43
Продвигаемые публикации
Поздравление с Днем защитника Отечества
Новости проекта, 21 Февраля, 11:30 21 Февраля, 11:30
Как понять, что адвокат-защитник по уголовным делам хороший и где его найти?
Статьи, 13 Февраля, 18:55 13 Февраля, 18:55
Как работа с потерпевшим может помочь избежать реального лишения свободы. Условное наказание за совершение ...
Судебная практика, 03 Февраля, 19:14 03 Февраля, 19:14
Защита ветерана: путь от «фильма ужасов» на видео до условного срока по ст. 111 и 119 УК РФ
Судебная практика, 31 Января, 14:56 31 Января, 14:56
Кому на самом деле принадлежат тематические фотографии из поиска Яндекса и сколько стоит бесплатная картинка ...
Статьи, 28 Января, 10:05 28 Января, 10:05
Консультация юриста в 2026: как выбрать правильного юриста и не попасть на жулика
Личные блоги, 19 Января, 16:29 19 Января, 16:29
Зачет сроков применения мер пресечения при подаче ходатайства об УДО. Юридическая арифметика - как время ...
Статьи, 09 Января, 12:37 09 Января, 12:37

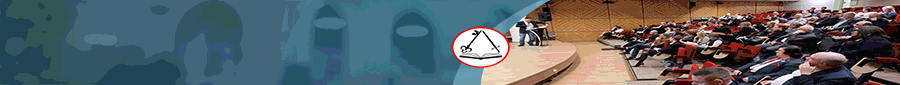

Нормальный адвокат всегда может объяснить клиенту, последствия его "чистосердечных признаний", и выработать совместную тактику. Тупое соглашательсво с клиентом — не самый лучший вариант