
Социальная материя.
Понимание социальной материи как бытия в возможности совершенно не случайно. Именно бытие в возможности является тем, что формообразуется в действительность. Именно на основе бытия в возможности возможно формообразование. Ели мы говорим о социуме как о формеорганизации индивидуумов, способных к познанию, то, соответственно, мера того, насколько бытие в возможности формообразуется в каждом из них и определяет систему организации общества. Это понимают все, на том или ином уровне животной адаптации (необходимость образования, самосовершенствования так далее). Таким образом, вопрос о чистоте формообразования бытия в возможности является тем более актуальным, так как все бытие в возможности, которое сегодня представлено нашему анализу, является в своем генезисе личным бытием в возможности. При этом понимание личности именно как того, что суммирует в себе общественные противоречия и затем преобразует их в действительность несостоятельно в отношении именно познания личного момента. От последнего следует отличать, как мы уже говорили, формы обслуживания толпы, реализация личностью общественного бытия в возможности, а так же личное восприятие общественных проблем. Личный момент рождается в форме чувствования в бытии в возможности, именно там, где чувства изменяются, последним возникает личный момент, ибо все становится формой бытия в возможности, формой опосредования данного бытия в возможности в реальность.
Вопрос, который нас здесь интересует, когдапродукт личного познания становится социальной материей. Возможные вариации ответа: приего самореализации в форме, доступной для восприятия неперсонифицированным кругом лиц, просто самореализации (предметная сторона энтелехии), опосредованием чувственным началом неограниченного круга лиц, при его дополнении и его отношении в части познания группой лиц, при развале той ли иной формы социального общежития на основе личного момента познания. В любом случае ответ не так очевиден, как может показаться на первый взгляд.
Социальная материя познается именно в противопоставлении своей форме. Форме чувственной перцепции бытия в действительности. Именновозможность постоянного пролонгирования чувственного, в части его качественности значения, в область возможного, позволяет говорить о наличии социальной матери. Исключение из данного правила — так называемые формы личной уверенности (возможности архетипированности сознания). В целом же именно представление о том, что есть форма общего идеального в отношении данного частно — чувственного позволяет существовать (представление о геометрии, математике, картографии, географии и так далее). Некоторые из названных форм априори существуют только в рамках сознания и являются формой элементного статуса динамической структуры той или иной методологии структурирования бытия в возможности (например, правила рассуждения, принципы организации систем исчислений в математике и так далее), в этом отношении социальная материя существует изолированно и обособленно от внешней действительности в форме тех же продуктов практического применения (теория — практика). Но существует отдельный критерий, по которому можно определить «чистую социальную материю»- это остаточная часть нереализуемых противоречий. В каждой форме организации любой когнитивной системы существует эта остаточная форма — квадратура куба, вечные философские проблемы и так далее. Это состояние вызвано именно общественным бытием в возможности и является его характерным признаком в отличие от личного момента познания. Личный момент познания всегда абсолютен в части честности с самим собой, человек в творчестве всегда конечен и, если он еще не существует в себе как конечность выводов и реализаций их « в металле», то, соответственно, он только на пути к личному моменту, а пока же он либо реализует общественное бытие в возможности (совершенства не бывает в части особенного, так как последнее всегда больше и шире индивидуального), либо только в начале отрешения от него. Личный момент — это всегда двигатель стены и расширение данной стены, это всегда скачок до упора и кровь от удара о невозможность дальнейшего исследования именно в силу несовершенства себя, как метода познания, это всегда недовольство своей волей, своей формой организации, и может быть даже и смерть в части данной невозможности, но никогда — ощущение того, что можно сделать лучше, больше и еще не завершено. Такого результата в личном моменте не бывает, — у нас всегда либо что – то существует, либо не существует вовсе.
Для общественного бытия в возможности ситуация несколько отличная … само по себе общественное бытие в возможности по своей структуре не может быть представлено сознанием одной личности (это процесс необратимый), то есть оно всегда ориентировано на сознание неперсонифицированного круга лиц. При этом в нем структурно присутствуют унифицированные необходимые критерии содержания для данного неперсонифицированного круга лиц (норма, вне соблюдения которой система не персонифицируется в отношении данного субъекта- специальное познание – экзамены, цензы, уровень владения языком, восприятие, осознание и так далее); наряду с ним нормы неформальности и ролевые формы ( приобщающийся, преуспевающий в отношении содержания бытия в возможности и так далее); так же присутствует в некоторой степени и рационализаторский, реформаторский аспект; далее- формы зеркально – негативного (форма усечения противоречий), обеспечивающих сходство и различие. И, наконец, мы подходим к самому главному – это формы, которые являются неназванными в отношении способности познавать бытие в возможности. Данные формы могут быть как детерминированы самим фактором создания (личный момент)- как не известен чувствам бог, так не известны нам и мысли бога; здесь ситуация простого бытия значения в той или иной форме адаптации к конкретной ситуации. И, соответственно, здесь же мы можем констатировать полную невозможность как такового решения вопросов в отношении истинности познания, результативности познания. Но данный остаток, который не персонифицируется ни одним из субъектов полностью, и при этом не обладает возможностью универсального потребления вне зависимости от времени и пространства и составляет ту самую форму противоречий, реализация которых в действительность — невозможна. Во-первых, это именно равновесие качественного и количественного, во-вторых, это именно остаток, и в-третьих, он именно противоречие, в перцепции сознания того субъекта, который реализует другие формы того же бытия в возможности, а, следовательно, связан первичными формами с точностью до наоборот и не может быть не подчинен им в отношении вынесения суждения о данном остатке, который и представлен в данном случае как противоречие в возможности, самой возможности. Заметим, что именно данное противоречие перестает таковым быть для стороннего наблюдателя, который в свою очередь не связан в своем сознании данным бытием в возможности. Таковы все простые решения, это игра, но в общественном бытии в возможности, как мы уже отмечали, по своей структуре не заложена способность изменения самое себя в части избавления своих субъектов от той уверенности в истинности содержания данного бытия в возможности, именно поэтому такие остатки противоречий неизменны применительно к любому бытию в возможности. Более того, это позволяет говорить о том, что бытие в возможности социума, социальная материя никогда не структурируется всецело в действительности, ни в части сложения парадигм, ни в части какой-либо единой парадигмы организации бытия, что в свою очередь позволяет говорить о формировании системы верификации бытия в возможности, и, соответственно, вынесенности суждений в отношении собственного бытия в возможности действительности. Если бы имела место быть ситуация от противного, тогда бы суждение не могло бы иметь место, так как происходило бы полное наложение чувственного на внечувственное, а, следовательно, абсолютная реализация, что означает автоматизм, навык (как мы знаем, последний в самой общественной форме рассуждения вынесен за грань рационального анализа).
С учетом того, что система перехода ОБВВ в действительность представлена системой циклов, взаимосвязанных в области или целевой причины, или единой протореализации (элемент формальной причины), или же качественности критериев материальной причины; сама социальная материя неизменна как хаос противоречий в части реализации их в действительность. Иными словами, до сих мы можем констатировать только то, что в общественном бытии в возможности существуют те или иные формы унифицированной организации, в остальном же она составляет хаотичность потока структурирования парадигм. Соответствующим образом, на ОБВВ воздействует сам личный момент, во время его корреспондирования в ОБВВ, более того, именно для личного момента важно понимать, в какой момент система наиболее хаотична устроена, и каким образом ее лучше всего бомбить на предмет изменения ее устройства в части возможности полноценной реализации бытия в возможности.
Сама социальная материя объективируется в формах низко алеантных игр, в большинстве своих движущих причин весьма уязвима с точки зрения чувственного основания, ибо именно за чувственным основанием следует рациональность, по принципу удостоверения внечувственного конечными формами чувственного. Соответственно личному бытию в возможности, стоит только полноценно организовать форму перехода бытия в возможности в действительность на основе неперсонифицированного или иного чувственного анализа в совокупности движущих причин в отношении бытия в возможности.
При этом, однако, не следует ориентироваться именно на те самые неразрешенные формы противоречий, о которых мы говорили выше. Они есть содержание и спокойствие всей системы, во многом даже умение толковать их определяет успешность познания социальной материи. Необходимо начинать с элементарной массовой подмены конкретики целевой причины по неопределенному кругу лиц. При этом бытие в возможности личного момента должно быть универсальным и по возможности компактным в отношении субъектов восприятия.
Необходимо запомнить, что личный момент всегда незаметно подменяет собой общественное бытие в возможности, этот процесс имеет форму«от одного субъекта к неперсонифицированному кругу лиц», и уже в дальнейшем данный неперсонифицированный круг лиц и превращает личное бытие в возможности в общественное, которое, в свою очередь, опять же подменяется другим личным и так далее. То, что мы сегодня воспринимаем как общественное, есть сугубо личное триста или пятьсот лет назад…
Пространство и Вечность в состоянии Пралайи — указывает на дифференциации — Эта Точка в Мировом яйце есть Зародыш внутри его, который разовьется во Вселенную, во все Сущее, в беспредельный, переодический Космос; Зародыш, являющийся, переодически и поочередно, то скрытым то действенным. Единый круг есть Божественное единство, откуда все исходит и куда все возвращается; его окружность — вынужденно относительный символ в силу ограниченности человеческого ума — предпосылает отвлеченное, вечно-непознаваемое Присутствие, а его площадь Вселенскую Душу, хотя оба они едины. Тем, что лишь площадь Круга Белая, вся же окружающая плоскость черная, ясно указывается, что этот план, как бы ни был он еще тускл и туманен, является единственным, доступным человеку, знанием. На этом плане начинаются проявления Манвантары, ибо в этой Душе дремлет, во время Пралайи, Божественная Мысль, в которой сокрыт план каждой грядущей Космогонии и Теогонии. Это есть Единая Жизнь, вечная, невидимая и, в то же время, вездесущая, без начала и конца, но переодичная в своих регулярных проявлениях… (Тайная доктрина Е.П. Блаватская)
Вот это круто.
Это не круто. Вот это, действительно, круто!
Вы знаете Владимир Михайлович я тут задружился с директором одного научного центра ОИЯИ, который непосредственно участвовал в создании АК в ЦЕРНЕ (вместе с Джоном Фергюсоном). Так по его собственномуу признанию — этот АК полная медийная разводка в принципе. То есть изначально реальным физикам было понятно, что результаты таких научных исследований не дадут НИЧЕГО. Но денег все на этом зарабатывают прилично. Чистая такая научная коммерция.
Рустам Павлович, нет точной истины, она недоступна, мы только к ней можем приблизится максимально близко, но, достигнув определенного этапа, ученые понимают, что достижение еще далеко. Согласен о возможности медийного развода, но, с другой стороны, возможен ли предел точных знаний?
Согласен! :)) Предел точных знаний как суммы производных наших представлений о познаниии невозможен. Так же как арифметически невозможно обосновать наличие ноля.
В природе (или в бытие, как вам будет угодно) понятия (вернее, реальности) ноля не существует. Нет ноля в природе, это понятие «придумано» для лучшего восприятия действительности. А лучшего ли?
Владимир Михайлович, насчет ноля и его не существования вы явно погорячились. Ведь если мне не изменяет память, то впервые понятие ноля сформулировали в древности индийские философы: Ноль это сумма всех положительных и отрицательных чисел! Согласитесь, что в этом сокрыта большая мудрость, ведь фактически ноль это потенция, которая заключает в себе всю реальность. И символика изображения ноля тоже не случайна, ибо это и символ солнца и Бога, а сдвоенный ноль символ бесконечности, ну и т.д…
Нет в природе ноля. Его придумали, чтобы лучше понимать действительность. Бытие подразумевает время и движение, а ноль — это миг
Ну, если продолжить философствовать философию:) то мы можем договориться до чего угодно. Например, вспомнить, что Природа это часть проявленной реальности, которая в сумме с МахаПралаей дает ноль. Или о фрактальной сущности строения Природы, что при бесконечном рассмотрении устремляется в ноль. Или порассуждать о «невидимом» пятнадцатом камне в храме Рёандзи. Или об онтологическом доказательстве бытия Бога, которое сформулировал Ансельм Кентерберийский, что повлекло за собой множество логических ошибок в стане весьма уважаемых философов, пытавшихся разоблачить это доказательство.
Можно не признавать ноль как реальность, но без него действительно никак не объяснить действительность и в этом вы правы.(handshake)
Ну не об этом же речь!
Я понимаю ноль как точку отсчета, т.е. опоры, а как Архимед сказал: Дайте мне точку опоры и я поверну Землю.
В моем понимании ноль — это настоящее. т.е. миг между прошлым и будущим.:)
Интересно, что вы заговорили о «точке»! Как по вашему, если «точка» существует в реальности, то какую форму она имеет:)
Все или ничего. В смысле, бесконечность/ноль, добро/зло.
Рад! весьма рад единомышленнику, Владимир Михайлович! :))(handshake)
Я мыслю, значит, я существую!:D
Бозов Алексей Анатольевич
Да у древних нуля небыло.
Индейцы Майя не пользовались нулем, славяне не пользовались нулем и т.д.
Можете посмотреть фильмы
via-midgard.info/news/video/2261-anatolij-sharshin-seminar-po-glagolam-russkix.html
Не знаю как Вам всем, но мне понравился конечно очень заумно с одной стороны но там там есть очень много моментов которые Всем могут пригодиться в жизни и заодно обьясняется что такое ноль.
Короче смотреть ВСЕМ обязательно.
Фигня это все, Муть для недоучек.
Я сам занимаюсь различными исследованиями.
Некоторые биополевые структуры имеют скорость на очень много порядков больше, это уже 80 г. доказали. А Европейском центре ядерных исследований в основном ищут частицу Бога — Но как говориться не могут найти :)
Короче ищут не там где надо и не то что надо.
А вы попробуйте для начала Блаватскую почитать — слабенок не хватит :)(giggle), а там столько умного написано я думаю, что Блаватская сама даже не догадывалась, про некоторые весчи.
Блаватская мной давно прочитана, опоздали с советом, причем по фолиантам, а не по вики. В отличие от вас, наученного на трудах Склярова и Мулдашева, «гениев» от сохи, мне неизвестно ни одного вашего исследовательского труда, все какие-то ссылки. Мало думаете и много советов даете, как та домохозяйка, стряпающая каждый день блины и, при этом, поучая всех и вся.
Присоединюсь!
Прочитана это хорошо, вот лишь бы понятна было :D(giggle).
Вот там есть местечки как вселенная разворачивалась как поняли хоть чуток. :D
Шифр не позабыли :D
Там пол книги на шифре и на образах
Да вот эти гении от сохи, они почему-то по всему миру признаны.
Так что перед тем, как про кого-то что-то говорить надо хоть понять какую ребята мысл несли. А у ВАС и аргументов нуль (вакуум). АРГУМЕНТИРУЙТЕ СПЕРВА В ЧЕМ Скляров и Мулдашев не правы. Конкретные факты научно обоснованные
Ну хватит рекламы!:)) Что конкретно сказать можете? Изложите кратко свое видение истиннности этих учений! Лично моя истина кратко — ludo ergo sum!
1. Неужели ваш шифр?8-|
2. Я аргументирую аргументом: если поняли несущиеся мысли Склярова и Мулдашева, то изложите их для обсуждения. Конкретные факты научно обоснованные. А пока данный тезис находится в нулевом состоянии, то обсуждаем исключительно ноль и не более того.
Практически нет возражений:))Спасибо за Ваш комментарий я писал ою оккультизме и нахожу эту тему, как и вообще, тем символизма и мифологии — намного более интересной, чем любую точность науки.
Кратенько но по существу.
1. У Блаватской Е.П. есть определенный шифр кто ее книги читал, тот сразу может понять, что слишком все заумно и непонятно, так вот, без шифра конечно ничего и не понять. Скажете и где же шифр, ну ребята извените как говориться. :)
2. По Склярову — он конкретно и обоснованно рассказывает об очень высокой цивилизации, ну просто досканально. Японцы попробовали слепить пирамиду в 20 м высотой, лепили 2 года и как говориться обложались, и это с Японской высокотехнологичной техникой. На данный момент полигональную кладку не на одном станке в мире не могут сделать ну нет таких супер станков и таких вычислительных мощностей нет.
3. По Мулдашеву — который открытия сделал с алоплантом. Так вот славяне в очень глубокой древности спокойно работали с этими технологиями, а Мулдашев еще только начал и толком даже не понимает, только изучает
Ну и много много всякого. Короче то что в школе Вам объясняли — это сплошная чушь, но правда Вас не убедить.
ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ ЕСЛИ ХОТИТЕ ФИЛЬМ, А ТАМ КАК ХОТИТЕ, ВЫ ДЯДЕНЬКИ УМНЫЕ У ВАС СЕМЬ ПЯДЕЙ НА ЛБУ.
Вы можете сказать, а для чего Вас в школе обманывали — Все просто, есть определенная структура, которой выгодно, чтобы люди мир понимали вот в таком смысле.
А позвольте полюбопытствовать, а почему Вы решили, что истина описана именно у Блаватской, а не у старообрядцев или сыроедов, например :)? В настоящее время уж чересчур много «истинных учений» развелось, и в большинстве своем приводят они к уходу от жизни (либо в мечты, либо в сумасшествие, а порой и вообще в отказ от оной). Умение рационально и объективно смотреть на информацию, отсеивать полезное от безумного в школе как раз-таки и прививается. Вернее прививалось когда-то...
Будьте осторожными в выборе «истинных» источников. Не те времена, чтобы чему-то верить безоглядно.
Спасибо за предупреждение про истинных источников.
Истину пока у себя нашел.
Как я уже писал в одной из публикаций, что — " Правда всегда одна, так сказал ФАРАОН". Ну и песня такая есть. Так вот оказывается — это точно, ПРАВДА одна даже источник имеется. Может через месяц сброшу на этот сайт статейку небольшую.
уж сделайте милость:))
● Арбитраж. Банкротство. ФАС. Юридическое сопровождение вашего бизнеса.
● Юрист по ВЭД. Споры с ФТС. Международное право.
Защита по сложным уголовным экономическим делам.
Борьба с фальсификациями и незаконными методами расследования. Опыт, надёжность, добросовестность!
Дорого, но зато качественно. Все встречи и консультации, в т.ч. дистанционные только по предварительной записи.
В рамках адвокатской деятельности оказываю юр. помощь по многим вопросам.
Являюсь также профессиональным медиатором.

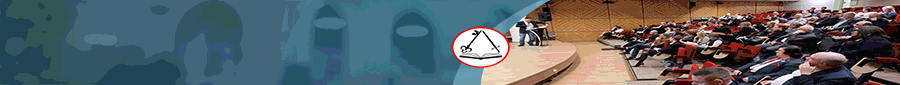

Очень интересно.
Совершенно очевидные казалось бы вещи над которыми очень редко, к сожалению задумывается человек. на мой взгляд бытие каждого из нас, будущее каждого из нас это и есть те самые маленькие частички, в песочных часах которые называются-Общественность. И только мы и каждый в частности, в силах переворачивать их, не позволяя стекать только вниз, но и стремиться вверх. Главное не позволить этот сосуд разбить, иначе каждая песчинка будет представлять собой ничто иное как мешающий мусор.
Очн интересная аллегория, Ксения Николаевна! Спасибо за столь тонкий и вдумчивый комментарий. Я всегда помню, что текст «делает» именно читатель. Еще раз спасибо:))
Комментировать профессионала такого уровня, я на мой взгляд не имею права. Просто мысли в слух.Спасибо за оценку.