
Однако УПК РФ не содержит необходимых правовых норм, которые в должной мере регулировали бы процедуру и основания для отклонения вопроса, заданного сторонами.
Вопросы, которые в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, подлежат отклонению председательствующим, следует расценивать как недопустимые вопросы.
Так, согласно ч. 1 ст. 275 УПК РФ (Допрос подсудимого): «Председательствующий отклоняет наводящие вопросы и вопросы, не имеющие отношения к уголовному делу».
В соответствии с ч. 4 ст. 335 УПК РФ: «Присяжные заседатели через председательствующего вправе после допроса сторонами подсудимого, потерпевшего, свидетелей, эксперта задать им вопросы. Эти вопросы формулируются председательствующим и могут быть им отведены как не относящиеся к предъявленному обвинению».
Как видно из приведенных правовых норм председательствующий отклоняет недопустимые вопросы только при допросе подсудимого, однако при допросах потерпевших и свидетелей такое право не закреплено, а в суде с участием присяжных заседателей председательствующий отклоняет недопустимые вопросы, заданные только присяжными заседателями и не отклоняет вопросы, заданные, например, прокурором или адвокатом.
Если следовать буквальному толкованию процессуального закона, то недопустимые вопросы отклоняются самим председательствующим и соответствующего ходатайства стороны для этого не требуется.
Из анализа ст. 37 УПК РФ, ст. 246 УПК РФ и ст. 47 УПК РФ, ст. 53 УПК РФ, ст. 248 УПК РФ, регулирующих права сторон обвинения и защиты, то о праве заявить ходатайство об отклонении вопроса, заданного оппонентом, вообще ничего не говорится.
 УПК РФ достаточно оригинально классифицировал недопустимые вопросы: в обычном суде — это вопросы наводящие и не имеющие отношения к уголовному делу, а в суде присяжных — это вопросы, не относящиеся к предъявленному обвинению.
УПК РФ достаточно оригинально классифицировал недопустимые вопросы: в обычном суде — это вопросы наводящие и не имеющие отношения к уголовному делу, а в суде присяжных — это вопросы, не относящиеся к предъявленному обвинению.Хотя и абсурдно звучит, но получается, что в суде присяжных наводящие вопросы присяжным задавать не запрещается в отличие от суда в ином составе. Сложно подобрать какую-либо аргументацию, подкрепляющую такую логику законодателя.
Что касается УПК РСФСР, то в нем согласно ст. 283 УПК при допросе свидетелей устранялись вопросы, не имеющие отношения к делу, а в суде присяжных, согласно ст. 446 УПК, отклонялись вопросы присяжных заседателей, не имеющие отношения к делу, а также наводящие или оскорбительные.
Нетрудно заметить, что в УПК РСФСР наряду с наводящими и не имеющими отношения к уголовному делу, отклонялись и оскорбительные вопросы, чего нет в УПК РФ.
Может быть законодатель не против, чтобы они задавались?
Нет в новом процессуальном законе доступного толкования в ст. 5 УПК понятия «наводящий вопрос», «вопрос, не имеющий отношения к уголовному делу», а также «вопрос, не относящийся к предъявленному обвинению», что создает благодатную почву для судебного произвола, недобросовестный председательствующий в силу своего непредсказуемого внутреннего убеждения может посчитать любой вопрос наводящим или не относящимся к уголовному делу.
Так случается достаточно часто, когда судья, вопреки закону, находясь в процессуальном альянсе с прокурором, фактически осуществляет уголовное преследование.
К примеру, подсудимый обвинялся в совершении изнасилования. Стороне защиты стало известно, что за последний год потерпевшая дважды обращалась в прокуратуру с заявлениями о совершенных в отношении нее изнасилованиях при обстоятельствах, вызывающих обоснованные сомнения. Впоследствии данные уголовные дела были прекращены за непричастностью обвиняемых в совершении преступления.
Сторона защиты, с целью выяснения достоверности показаний потерпевшей, задавала вопросы, связанные с предыдущими фактами расследований, которые косвенно подтверждали доносительский промысел потерпевшей и ложность ее показаний, однако суд невозмутимо данные вопросы отклонил, как не имеющие отношения к предъявленному обвинению, при этом заданные вопросы в протокол не занес, а замечания на протокол в этой части отклонил.
Ходатайства защиты о приобщении к материалам уголовного дела постановлений о прекращении уголовных дел по ее предыдущим заявлениям оставил без удовлетворения по тем же мотивам.
Суд был уверен в доказанности вины подсудимого, так как располагал стандартным пакетом доказательств: уличающие показания потерпевшей, косвенные свидетельства лиц, знавших об изнасиловании с ее слов и экспертное заключение о незначительных телесных повреждениях, однако не учел то принципиальное обстоятельство, что в фундаменте этих доказательств находились только показания потерпевшей, достоверность и объективность которых суд проверять не пожелал, отклонив вопросы защиты и считая их не имеющими отношения к делу. Не выяснив мотивов дачи потерпевшей показаний, суд мог вынести неправосудный приговор.
Данный пример наглядно демонстрирует, какие негативные для правосудия последствия могут последовать из-за отсутствия законодательного толкованияпонятия «вопрос, не имеющий отношения к уголовному делу».
Не ясно, каким содержанием наполнял законодатель понятия «вопрос, не имеющий отношения к уголовному делу» и «вопрос, не относящийся к предъявленному обвинению».
Совершенно очевидно, что основания для отклонения вопросовпредседательствующим в новом УПК РФ неоправданно сокращены и не охватывают всего многообразия недопустимых вопросов, которые задаются в судах.
Не вызывает сомнений тот принципиальный момент, что снятые вопросы, подлежат занесению в протокол судебного заседания хотя бы для того, чтобы вышестоящая судебная инстанция смогла бы проверить правильность действий суда.
Однако ст. 259 УПК РФ о протоколе судебного заседания молчит по поводу отклоненных вопросов. Есть, правда п. 6 ч. 3 ст. 259 УПК РФ, согласно которому в протоколе обязательно указываются заявления, возражения и ходатайства, участвующих в деле лиц и ходатайство об отражении в протоколе суда отклоненного вопроса должно удовлетворяться. Если же такого ходатайства не поступит, то суд, руководствуясь ст. 259 УПК РФ, не станет заносить такой вопрос в протокол.
Неудачное правовое регулирование недопустимых вопросов в суде создает массу проблем. Закон заметно отстает от практической деятельности.
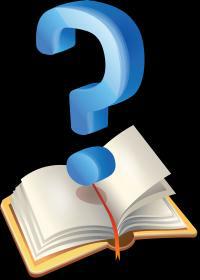 Считаю, что ст. 277 УПК РФ и ст. 278 УПК РФ, регламентирующие порядок допроса потерпевшего и свидетелей в ходе судебного следствия, необходимо дополнить правом стороны ходатайствовать перед председательствующим об отклонении, кроме наводящих следующих вопросов:
Считаю, что ст. 277 УПК РФ и ст. 278 УПК РФ, регламентирующие порядок допроса потерпевшего и свидетелей в ходе судебного следствия, необходимо дополнить правом стороны ходатайствовать перед председательствующим об отклонении, кроме наводящих следующих вопросов: 1.Заданных в некорректной и оскорбительной форме.
Не ясно, почему УПК РФ не воспроизвел старый процессуальный кодекс, может быть для его составителей настолько очевидна недопустимость оскорбительных вопросов, что об этом не стали указывать вообще. Однако вряд ли такой подход представляется оправданным, поскольку то, что очевидно для одного правоприменителя, может быть совсем не очевидным для другого.
2.Не имеющих отношения к обстоятельствам, подлежащим доказыванию, предусмотренным ст. 73 УПК РФ.
Полагаю, что именно такая формулировка предпочтительнее указанной в законе. В этом случае сторона может аргументировать обоснованность и допустимость своего вопроса со ссылкой на конкретное обстоятельство, подлежащее доказыванию, применительно к ст.73 УПК РФ.
3.Ранее выясненным в суде.
Нередко стороны прибегают к тактике задавания вопросов, ранее выясненных с целью получения иного более благоприятного ответа допрашиваемого. Неединичны случаи, когда судья после вопросов сторон, начинает задавать вопросы, ранее выясненные прокурором или защитником, но делает это «напористо и наступательно», в результате ответы даются совершенно иные, чем ранее. А когда сторона, заметив противоречия в показаниях свидетеля, пытается их выяснить, то задаваемые вопросы отклоняются председательствующим как им же ранее выясненные.
4.Требующих специальных познаний, которыми очевидно не располагает допрашиваемый.
Например, когда свидетелю, инженеру по профессии, задается вопрос: «Как Вы думаете, могли ли имеющиеся у потерпевшего на лице повреждения образоваться при падении?»
5.В которых осведомленность свидетелей вытекает из незаконно проведенного следственного действия.
Речь идет о случаях, когда, например, протокол обыска признан судом недопустимым доказательством в ходе предварительного слушания, а сторона обвинения пытается выяснить вопросы, связанные с порядком его проведения, у свидетелей-понятых.
6. Связанных с понуждением дачи тех или иных показаний под угрозами.
Угрозыначинаются с повторного разъяснения санкции статей УК РФ в случае дачи нежелательных показаний. Когда прокурор в суде говорит свидетелю: «Вы видимо забыли, что Вас предупредили об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, Вы, наверное, ищите проблем, я их Вам обеспечу, вы, что хотите сесть и т.д.» и далее следует вопрос.
7. Основанных на искаженных ответах.
К сожалению, об этом не всегда задумываются не только адвокаты, но и прокуроры, которые нередко упражняются перед присяжными заседателями в хитрых уловках, замешанных на неточной, нравственно неопрятной речи.
Об одной такой уловке рассказывает П.С. Пороховщиков: «Свидетель показал, что подсудимый растратил от восьми до десяти тысяч; обвинитель всегда повторит: было растрачено десять тысяч; защитник всегда скажет: восемь. Следует отучиться от этого наивного приема, ибо нет сомнения, что судья и присяжные всякий раз мысленно поправят оратора не к его выгоде» (П.Сергеич «Искусство речи на суде», Тула «Автограф», 1999г.)
8. Основанных на предположении допрашиваемого, а также на слухах, когда последний не может назвать источник своей осведомленности.
Получив ответ, что свидетель в период совершения кражи находился в другом городе и никакой информацией о лицах ее совершивших не владеет, сторона пытается выяснить у него вопросы типа»: «А как Вы думаете, мог ли кражу совершить гр-н Н?». Такие вопросы подлежат отклонению, поскольку ответы на них в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 75 УПК РФ являются недопустимыми доказательствами.
9.Неконкретных.
Такие вопросы непонятны для отвечающего и из них не ясно, чего же хочет выяснить их задающий.
Например: «И что же дальше?», «А потом?». «И куда же Вы его….?».
10. Касающихся адвокатской тайны и тайны исповеди.
Вопрос, заданный подсудимому: «Что же Вам посоветовал ваш защитник?» или «Что Вы рассказали своему защитнику?».
11. Основанных на даче стороной правовой оценки тем или иным обстоятельствам.
Например, свидетель обвинения показал, что он приобрел имущество, добытое преступным путем.
Сторона обвинения, услышав эти признания, задает вопрос типа: «А вам известно, что Вы тем самым совершили преступление, предусмотренное ст. 174 УК РФ?». Очевидно, что уголовно-правовая оценка действиям лица может быть дана в обвинительном документе, вынесенном в соответствии с процессуальным законом.
12. Связанных с общеизвестными и не требующими доказывания фактами.
Классический пример такого рода вопросов приведен П. Сергеичем «Искусство речи на суде»: «Дело об убийстве. Оглашен протокол вскрытия задушенной женщины; там сказано: «В полости матки вполне доношенный плод» и затем следует описание плода. К допросу приглашается эксперт, врач, производивший вскрытие; товарищ прокурора спрашивает его: «Скажите, пожалуйста, покойная была беременна?».
( Искусство речи на суде. Тула.1999 г. с. 164)
Приведенный перечень недопустимых вопросов может быть, как расширен, так и сокращен, но в любом случае он должен быть шире того, который приведен в УПК.
Полагаю, что закон должен предусматривать систему «сдержек и противовесов» и для председательствующих, которые нередко задают наводящие и иные недопустимые вопросы.
 Рассмотрим пример из практики одного из судов Ставропольского края в 2001 г. Н. обвинялся в совершении хулиганства. Потерпевшая в ходе предварительного расследования не давала показаний о том, что обвиняемый высказывал нецензурную брань.
Рассмотрим пример из практики одного из судов Ставропольского края в 2001 г. Н. обвинялся в совершении хулиганства. Потерпевшая в ходе предварительного расследования не давала показаний о том, что обвиняемый высказывал нецензурную брань. В судебном заседании стало очевидным, что квалификация по ч. 2 ст. 213 УК РФ ошибочная и действия Н. содержат состав преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ. Председательствующий, желая сохранить квалификацию прежней, предпринял лихую кавалерийскую атаку на потерпевшую:
Председательствующий: «Выражался ли в отношении вас подсудимый нецензурно?»
Ответ потерпевшей: «Не помню, по-моему, нет».
Вопрос председательствующего: «Хорошо думайте, ни одно хулиганство не обходится без мата!».
Защитник: «Ваша честь, возражаю, Вами задан наводящий вопрос».
Председательствующий: «Секретарь, запишите в протокол замечание адвокату за нарушение порядка в судебном заседании, следующее замечание и в ваш адрес будет вынесено частное постановление. Потерпевшая отвечайте!».
Потерпевшая: «Я уже точно не помню».
Председательствующий: «Вы что, падали с вертолета без парашюта и все забыли или у Вас амнезия головного мозга? Скорее вспоминайте, мы тут таких дел тысячи рассмотрели и знаем, что без нецензурной брани не могло обойтись!».
Потерпевшая (после мучительных раздумий): «Может и говорил».
Председательствующий: «Вот это другое дело» и далее секретарю: «Запишите в протокол, Н. выражался грубой нецензурной бранью».
Думаю, подобный судебный диалог между судьей и участниками уголовного судопроизводства нередко встречается в Российских судах. Данный пример наглядно иллюстрирует то, что судья может задать наводящий вопрос, и, используя судебно-властный ресурс, добиться ожидаемого ответа, предварительно подавив процессуальную активность стороны.
В связи с этим, немаловажно дополнить закон следующим: «Председательствующий по своей инициативе либо по ходатайству стороны отклоняет недопустимые вопросы, при этом отклоненные вопросы подлежат занесению в протокол судебного заседания.
Если же сам председательствующий задает недопустимые вопросы, то сторона вправе сделать об этом соответствующее возражение на действия председательствующего в соответствии со ст. 243УПК РФ, ч. 3 ст. 259 УПК РФ, ч. 3 п. 6 ст. 13 УПК РФ, подлежащее внесению в протокол судебного заседания».
Общеизвестно, что боксерский поединок осуществляется по определенным правилам, в соответствии с которыми так называемые запрещенные удары не учитываются, а боксеры и их судьи заведомо осведомлены о том, куда можно наносить удары, а куда нельзя.
К сожалению, стороны, состязаясь в суде, заранее не знают, какие вопросы, ими задаваемые, будут расценены как приемлемые, а какие из них могут стать недопустимыми по прихоти суда.
Следуя принятой аналогии необходимо констатировать лучшую урегулированность правил боксерского поединка в сравнении с УПК, регулирующим состязательность сторон в суде.
Необходимо признать, что УПК Российской Федерации самоустранился от регулирования правового института недопустимых вопросов, оставив эту важнейшую сферу судебного разбирательства на откуп конкретным судьям, предоставляя им неограниченный волюнтаризм в руководстве судебным заседанием.
Действующие процессуальные нормы в этой части создают препятствия для реализации процессуального принципа состязательности сторон и нуждаются в законодательном совершенствовании.
А пока УПК РФ безмолвствует, суды и участники уголовного судопроизводства продолжат беспочвенную дискуссию о недопустимых вопросах, неоправданно усложняя и удлиняя судебное разбирательство.
Ваши голоса очень важны и позволяют выявлять действительно полезные материалы, интересные широкому кругу профессионалов. При этом бесполезные или откровенно рекламные тексты будут скрываться от посетителей и поисковых систем (Яндекс, Google и т.п.).
Мне кажется, судья наводящими вопросами вытягивает уголовное дело на обвинительный приговор, т.е. фактически устраняет недоработки следствия. Я думаю, этот вопрос должен решаться на законодательном уровне. Закон должен предусматривать возможность отклонения наводящих вопросов заданных судьей, сторонами процесса.
Именно поэтому судьи шарахаются от ведения аудиозаписей, как черт от ладана и ведут процесс без явного хамства, а процесс ведется, как правило, в соответствии с ГПК и УПК, если конечно судья эти нормы знает и помнит.Случаются у судей и открытия по содержанию норм права.А еще бы я поставил вопрос о дисциплинарной ответственности судей за необоснованное вынесение частных определений в адрес адвокатов. Это же свидетельство не профессионализма судьи и его не объективности.
Много лет проработав в суде, пришла к выводу о том, что большинство проблем в судебном заседании возникает не столько из-за несовершенства законодательной базы (все в законе предусмотреть невозможно), а из-за непрофессионализма судей, хотя таких случаев в моей практике были единицы. Думаю, проблема с кадрами существует не только в суде, но и во всей государственной системе. Сейчас это положение немного стало выравниваться, но для того, чтобы в суде работали настоящие беспристрастные профессионалы, способные грамотно устранять пробелы законодательства, необходимо повышать не только требования к кандидатам в судьи, но и предоставлять соответствующее достойное содержание.
У меня еще не такая большая практика, но я уже сталкивалась с тем, что судья И прокурор задают вопросы, явно не имеющие никакого отношения к рассматриваемому делу, или откровенно наводящие вопросы свидетелям (конечно в большинстве случаев, свидетели допрашивались следователем несколько лет назад, а в судебном заседании, мало того, что волнуются, так еще и не помнят), но ведь это не оправдание для уместности наводящих вопросов!
В любом суде, последнее слово остаётся за судьёй. Именно по этому, право выбирать того или иного судью, должно принадлежать народу.
Я поддерживаю идею выборности судей. Любой человек на «вечной» должности расслабляется, и начинает считать себя непогрешимым, а всех остальных виноватыми.
Судья в альянсе с прокурором… наводит на размышления и ассоциации… почти эротические.
Да уж… порой таких вопросов назадавают, что хоть смс-ку адвокату пиши, чтоб помог с ответом…
Нынешняя судебная практика обязательно обвинительная, а судья не робот и любое, пусть даже самое ( на бумаге)отменное толкование будет всё равно принято им в пользу стороны обвинения. Ну или, как тут уже говорили, в пользу той стороны, которая больше заплатила.
Некоторые судьи действительно хамят в процессе, особенно если адвокат молоденький и неопытный. Бывает и наоборот — молоденький судья, дабы самоутвердиться, нарочито строжится…
Я считаю, что это проявление личных «комплексов». Серьезному судье такие «понты» ни к чему.
Естественно, бывают и наводящие вопросы, и провокационные, ну так а зачем тогда адвокат в процессе? И своего клиента (а иногда и чужого), и свидетелей нужно готовить, да и самому не зевать — ориентироваться в динамике процесса. Ведь не только судья, но и защитник может прервать «поток сознания» — может, и должен участвовать в «дирижировании».
Доля истины тут конечно есть… при серьезном адвокате, никто хамить и «хвост пушить» не станет :)
Конечно, законодательство требует доработки, но не от нас это зависит. А судья ведет себя как царь и Бог. Я тоже столкнулась однажды с таким, правда не на суде. Звоню, представляюсь, называя себя по имени отчеству. А она спрашивает, сколько ТЕБЕ лет; я -21. Ну тогда ТЕБЕ рано быть Марией Ивановной, ТЫ просто Маша.
Нечаянное наблюдение: Дураков хватает везде… но почему то они концентрируются в основном в госконторах…
статья профи
Законодательная инициатива автора статьи вызывает уважение (жаль только, что Закон не наделяет его таким правом). А вот с некоторыми комментариями хочется поспорить. Считаю, например, некорректным утверждение о непрофессионализме судей. Этот «дамский клуб» (ведь большинство судей у нас дамы, что, на мой взгляд, «не есть хорошо») выдавливает непрофессионалов. И ещё: судьи по гражданским делам очень бояться обжалований, поскольку отмена решения чревата для них денежными потерями. Вот и звонят в щекотливых ситуациях районные судьи своим областным подружкам и советуются: если я приму такое-то решение, область его не завернёт? Что касается уголовки, то как верно отметил адвокат Стариков, — аудиозапись нам в помощь (ч.5 ст. 241 УПК РФ). Я приходил на уголовный процесс в качестве слушателя с диктофоном и демонстративно писал весь спектакль — очень помогало.
Одним из показателей профессионализма судей является их беспристрастность, о коей с учетом существующей обвинительно-карательной практики уголовного судопроизводства говорить не приходится. Именно поэтому даже самый грамотный судья не может считаться в полной мере профессионалом, если занимает позицию обвинения. Судья должен всегда оставаться нейтральным, на то он и судья.
С предложенными автором категориями вопросов, подлежащих отклонению, соглашусь в полной мере. В то же время, как работник судебной системы, могу с уверенностью сказать, что в протокол судебного заседания по уголовному делу в обязательном порядке должны вносится вопросы, которые были отклонены судом, с указанием основания его отклонения. В случае, если отклоненный вопрос не зафиксирован в протоколе, сторона по делу нередко пользуется данным моментом, и в возражениях на протокол судебного заседания может, перефразировав вопрос, указать, что он вообще не нашел своего отражения в протоколе.
Хорошая статья! Полностью разделяю позицию автора, который уже не впервый раз подымает вопрос о несовершенстовании уголовно-процессуального закона!
А у меня есть мнение. Почему бы в УПК РФ не вставить норму запрещающую судьям вообще задавать вопросы свидетелям, подсудимому, экспертам и прочим всяким специалистам? Есть защита и обвинение, а дело суда просто слушать доводы. Слушать молча.
Но ведь приговор выносит судья. А вдруг стороны забыли что-то спросить? Идет ведь с у д е б н о е разбирательство. Иногда судья задает такой вопрос, который только на пользу))
А вообще, в суде и защитники, и гособвинитель постоянно снимали вопросы и суд удовлетворял их замечания зачастую…
Уважаемый Нвер Саркисович, только сейчас увидела вашу статью. очень интересно. вот вопросы, которые отводились председательствующим в одном из процессов по 290 понятым, которые участвовали в ОМП, КАК НЕОБОСНОВАННЫЕ:
— расскажите, что вы видели?
— поясните последовательность осмотра,
— расскажите, кто осматривал машину?
— расскажите, что еще при вас изымалось, упаковывалось на месте происшествия?
— где осматривались деньги?
— кто открывал машину при осмотре места происшествия?
— при вас изымались денежные средства?
Уважаемая Ольга Алексеевна! Это вполне допустимые вопросы! Судья был не прав…
Ваши голоса очень важны и позволяют выявлять действительно полезные материалы, интересные широкому кругу профессионалов. При этом бесполезные или откровенно рекламные тексты будут скрываться от посетителей и поисковых систем (Яндекс, Google и т.п.).
● Арбитраж. Банкротство. ФАС. Юридическое сопровождение вашего бизнеса.
● Юрист по ВЭД. Споры с ФТС. Международное право.
В рамках адвокатской деятельности оказываю юр. помощь по многим вопросам.
Являюсь также профессиональным медиатором.
Дорого, но зато качественно. Все встречи и консультации, в т.ч. дистанционные только по предварительной записи.
Защита по сложным уголовным экономическим делам.
Борьба с фальсификациями и незаконными методами расследования. Опыт, надёжность, добросовестность!

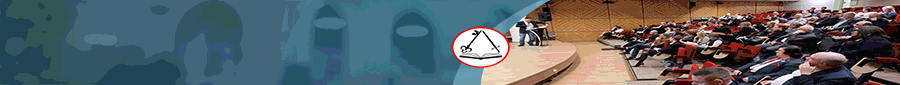

Соглашусь с мнением автора о том, что действующие в настоящее время уголовно-процессуальные нормы, не отражают порядок и возможность признания вопроса председательствующего судьи недопустимым. В связи с чем, председательствующий судья неограничен в полномочиях в руководстве судебным заседанием.